О буддийских коллекциях в музеях Петербурга

Монголы и предки калмыков ойраты (или западные монголы) познакомились с буддизмом еще в XIII веке. Специалист по истории буддизма у монголов Баатр Китинов отмечает роль уйгуров в этом процессе: «Уйгуры после разгрома их каганата кыргызами в середине IX в. в своей основной части переместились в регион Бешбалыка и Турфана и стали воспринимать буддизм в его тохарской и согдийской вариациях». В Турфанском оазисе, расположенном в центральной части Синьцзяна, уйгуры встретились с древней оседлой цивилизацией и начали смешиваться с ее многоэтничным и многоязычным населением, большую часть которого составляли буддисты. Постепенно уйгуры стали селиться в городах и заниматься земледелием, развили ирригационные системы, торговлю, ремесла.
Религиозную проблему они решили в типичной для степных кочевников манере: отказались от манихейства и стали буддистами. Таковым был способ адаптации кочевников евразийских степей к оседлым обществам. Подчинившись монголам в 1207 году, уйгуры перешли на службу монгольским правителям в качестве бюрократов, предоставив им свои знания. Затем ситуация вновь изменилась, и уйгуры стали ощущать все большее давление со стороны мусульманских государств и народов. В XIV веке началась их исламизация, и в последующие столетия большинство уйгуров стали мусульманами.
Известно, что восприятие буддизма, проникшего в XIII веке благодаря уйгурам к монголам и ойратам, было поверхностным и непрочным. В период единой империи, когда завоевания продолжались, монгольские правители проявляли терпимость к различным религиям, но сами официально были верны своей прежней вере – тенгрианству, хотя уже и с некоторыми отступлениями и модификациями, а простой народ по-прежнему поклонялся духам предков. Положение изменилось с прекращением завоеваний и распадом империи на отдельные государства. Новая историческая ситуация требовала от правителей этих государств идеологического сближения со своими подданными, и лучшим способом для этого было принятие религии последних. В XIII веке восточные монголы стали последователями тибетского буддизма Сакья, а западные монголы, т.е. ойраты, – последователями Карма-кагью. Хотя буддизм и был объявлен государственной религией империи Юань, основанной внуком Чингисхана монгольским ханом Хубилаем, он не стал обязательной верой самих монголов. Более того, изгнание их из Китая (1368) привело к заметному падению популярности буддизма. По мнению одного из крупнейших специалистов по истории кочевников А.М. Хазанова, феномен религии не существует и никогда не существовал в чистом виде. Религия является историческим феноменом, поскольку она всегда существует в конкретном времени и пространстве.
С последней четверти XVI века началось второе распространение учения Будды в монгольских кочевьях. На этот раз оно разворачивалось весьма быстро и оказало глубочайшее воздействие на монгольское общество. Широкому распространению буддизма в новых условиях способствовали надежды на возрождение монгольского величия в союзе с Тибетом. Западномонгольские ханы помогли лидерам школы Гелугпа объединить Тибет. Союз был скреплен принятием монгольской элитой именно тибетской версии буддизма (теперь речь шла уже о школе Гелуг). Отправной точкой этого процесса, согласно традициям, стала встреча летом 1578 года третьего главы буддийской школы Гелуг Содном Гьяцо (1543-1588) с правителем тумэтов Алтан-ханом (1507-1582). Последний даровал Содном Гьяцо титул «далай-лама» (букв. «великий учитель»), тем самым положив начало линии перерождений наиболее авторитетных учителей тибетского буддизма. Духовно-политический союз привел вскоре фактически к оформлению единой тибето-монгольской культуры.
На рубеже XVI-XVII веков начинается последняя в истории евразийских степей миграция кочевников – переселение части западных ойратов (калмыков) из Монголии через степи Сибири и Урала в Поволжье. Однако в XVII-XVIII столетиях еще не делалось различий между собственно ойратами Джунгарии и приволжскими калмыками, к тем и другим прилагалось одно и то же название «калмыки».
Проникавшие уже в Новое время в Северную Азию, в Сибирь путешественники и исследователи заставали там либо шаманские камлания, либо ламаистские обряды. Юрий Крижанич (1618-1683), славянский просветитель и видный общественно-политический деятель, 15 лет провел в Тобольске и по возвращении из ссылки написал «Историю о Сибири», одно из интереснейших и важнейших сочинений о Сибири в XVII веке. Особенно подробно он касается калмыков. Их религиозные верования описаны Крижаничем в представлениях XVII века: «Калмыки же, по всем признакам, – язычники. Простой жрец называется у них мандз, старший жрец – лаб (лама), а верховный – кутухта. Во время торжественных жертвоприношений мандз, в панцыре, шлеме и с луком и стрелами в руках, производит некие движения и действия и вертится во все стороны, как бы обуреваемый злыми духами; направляя лук и стрелу то туда, то сюда, он прицеливается в зрителей, стоящих вокруг него венцом, и преисполняет их всех страхом и ужасом. Наконец он неожиданно выпускает стрелу: кого он ранит или убьет, тот считается (у калмыков) блаженным». Перед нами описание некоего шаманского обряда, о чем свидетельствует такой его внешний признак, как вхождение в состояние транса. В XVII веке шаманская традиция сохранялась в калмыцкой среде, что обусловило принятие ряда законов «Великого уложения» (1640), направленных на ее искоренение.
Ко времени прибытия Крижанича в Тобольск в 1661 году здесь сложилась довольно большая иноземная колония. Вполне вероятно, что он был знаком и с автором рукописи «Описание путешествия в Сибирь», хранящейся ныне в Копенгагенской королевской публичной библиотеке. Это дневниковые записи немецкого офицера, имя которого неизвестно, прибывшего в Сибирь в 1666 году в составе группы европейских военных специалистов, возглавляемой полковником Г. фон Эгратом. Сочинение выдает в нем человека довольно образованного. Давая этнографическое описание Сибири, автор особенно подробно останавливается на калмыках. По его мнению, они являются язычниками, тем не менее они носят вокруг шеи четки, сделанные из очень больших черных камней и круглых белых костей, которые висят у них на груди: «…утром сидят они с этими четками в руках, совершая молитву и ворча при этом, как медведи; каждый камешек означает одного из их святых, у них есть также свои священники, которые носят красные четки с длинным и широким куском красного шелка, который они [перебрасывают] через плечо, затем завязывают наперед под рукой и кругом живота; на голове у них шапка, как и у других калмыков». Наблюдения автора дополняют сведения о Далай-ламе, которые сообщил ему «некий еврей по рождению, сделавшийся калмыцким священником, который еще превосходно говорил на своем немецком языке»: «Своего главного священника чтут они как святого и как бога и верят в то, что он семь раз рождается вновь… Этот их главный священник, которого они называют Далай-ламой, находится у них в большом почете, как бог, так что ни царь, ни какой-нибудь князь ничего не предпринимает [не спросясь его]: они прежде спрашивают сначала своего бога, а потом Далай-ламу, о совете».
«Однако москвитянами замечено, – отмечает Крижанич, – что в то время, когда была покорена Сибирь, калмыки были немногочисленны или же они еще не были достаточно известны. С тех пор они размножились в таком количестве, что их едва ли можно исчислить. Поэтому многие старались угадать…, чего должно ждать нам от этого народа по неисповедимым судьбам божиим».
В этой связи он упоминает о беседе с боярином Б.И. Морозовым, негласно возглавлявшим Московское правительство в середине XVII веке. Воспитатель («дядька») царевича, будущего царя Алексея Михайловича, он сохранил политическое влияние на него, участвовал во всех царских мероприятиях, в переговорах с иностранными посланниками. В разговорах с учеными иностранцами горько жаловался, что в молодости не получил образования, замечает историк С.М. Соловьев. По прибытии Крижанича в Москву в 1659 году Морозов интересовался, что ему известно «о калмыцких тайшах или князьях, живших ранее и в наше время»: «Я отвечал, что имена эти до сих пор оставались мне неизвестны. Морозов же удивлялся, что столь многочисленный и воинственный народ, каковы калмыки, пройден молчанием у европейских историков, с трудами которых он считал меня знакомым».
Создавая империю, Петр I не допускал подобной неопределенности. В частности, ввиду непосредственной близости к российским границам «буддийского мира» он ставил перед деятелями РПЦ задачу получить необходимое знание буддийской догматики, культовых практик различных школ и направлений буддизма. По его указанию в январе 1702 года посвященный в митрополита Тобольского и Сибирского Филофей Лещинский был направлен в Тобольск вместе с несколькими учеными монахами. В декабре 1706 года митрополит Лещинский отправил посольство в Северную Монголию «узнать о ламайском веровании и в земле буддизма проповедовать имя Христово». Но, как писал известный этнограф Сибири Н.А. Абрамов (1812-1870), эта миссия не достигла желаемой цели. Она описана в «Историческом обозрении Сибири» П.А. Словцова: «…разсудилось ему предварительно послать к Джебдзун-кутухте своих ученых для разведания о веровании ламайском и придать им молодых людей для изучения монгольского языка. Наши ученые достигли до куреня Халхасского кутухты и ограничились рассматриванием буддизма. Кутухта, дабы показать гостям свою важность и благоговение поклонников, раз собрал тысячи две лам и, окруженный сею толпою, вошел в кумирню и, посидев на возвышенном месте, задал гостям вопрос: сколько в этот день родилось на свет? Наши ученые… сами вместо ответа скромным образом предложили не менее забавный вопрос: сколько в этот день умерло людей в целом свете? Ответствовано, что в минуту вопроса много могло умереть; под тем же предлогом и гости отказались от решения нерешимой задачи. Можно верить, что кутухта… желал бы предложить и другие неприступные вопросы, но за недостатком доброго переводчика осталось неизвестным, чем кончилась степная беседа… Посланные ученики возвратились в Сибирь без успехов. Но она, по крайней мере, принесла Тобольской иерархии первое сведение о внешних обрядах буддизма и, быть может, о духе его». Словцов (1767-1843), сам в свое время окончивший Санкт-Петербургскую высшую Александро-Невскую духовную семинарию, преобразованную в дальнейшем в духовную академию, глубокомысленно заключает: «Истинно, буддизм есть море превращений индо-овидиевских». Участником описанного выше религиозно-философского диспута, вернее его попытки, был Джебдзун-Дамба-хутухта, или Богдо-гэгэн – первый глава национальной монгольской церкви. Адаптируя тибетский буддизм к исконным монгольским обычаям и условиям и включая в буддийское учение местных божеств и ритуалы, он создал монгольский буддизм с уникальными особенностями во всех сферах ритуальной жизни. В результате его деятельности во второй половине XVII века школа Гелуг стала более распространенной. В истории мировой культуры он более известен под именем, полученным во время посвящения в монахи, Дзанабадзар (1635-1723) – создатель алфавита «соёмбо», государственной символики, школ национальной живописи и скульптуры и т.п.
В 1719 году в Сибирь отправилась первая научная экспедиция, которую по поручению Петра I возглавил приглашенный из Данцига молодой ученый Д.Г. Мессершмидт. В ее программу естественно-исторических исследований входило и описание народов. В путевой журнал, который Мессершмидт вел с 1721 по 1726 год, вносились ценные сведения по этнографии сибирских народов, включая калмыков. С этой экспедицией связано начало целенаправленного сбора буддийских артефактов. К сожалению, часть собрания Мессершмидта, по всей видимости, была уничтожена пожаром в Кунсткамере, случившимся в декабре 1747 году. Академический отряд второй Камчатской экспедиции (1733-1743) шел по следам Д.Г. Мессершмидта. Руководитель отряда Г.Ф. Миллер еще до отъезда в сибирскую экспедицию опубликовал в 1733 году «Проект калмыцкой истории» – труд, который был задуман им под влиянием изученных материалов о калмыках. Обращает на себя внимание то, как молодой 27-летний историк формулирует проблематику калмыцкой истории. На первом месте стоит «естественное и политическое устройство страны», нравы и обычаи ее народа, затем следует рассмотрение его важнейших родов и фамилий, современного государственного строя, религии, языка, письменности, «цветущих наук и искусств». Таким образом Миллер демонстрирует явный отход от истории вождей и полководцев в область истории культуры, науки, нравов, политических, материальных и социальных отношений. Его утверждение о необходимости изучения истории России как многонационального государства, в котором внимания ученого достойны не только русские, но и другие многочисленные народы, разделял другой знаменитый историк XVIII века А.Л. Шлецер, в 60-е годы состоявший на русской службе в Санкт-Петербурге. «Они члены одного государственного организма, – писал он, – и, следовательно, имеют равное право на место в российской истории».
За десять лет пребывания в Сибири Миллер собрал довольно значительную этнографическую коллекцию «иноземческого платья, вещей идолопоклоннических»… Особенно высоко ценил он сам коллекцию «вещей, надлежащих к мунгальскому и калмыцкому идолослужению» – «сие собрание весьма редких вещей, каких во всей Европе еще не видано», на которое он «чрезвычайный труд и многие подарки употребил». Миллер был одним из первых ученых, привезших из Сибири буддийские культовые предметы. Он передал их в Кунсткамеру в 1748 году (на следующий год после большого пожара).
В 1767 году Академия наук снарядила пять отрядов экспедиции, один из которых возглавил 26-летний профессор зоологии П.С. Паллас. Согласно инструкции, в которой народоведческие задачи стояли на последнем месте, он начал свое путешествие как исследователь-натуралист. «Этнографический сдвиг», по весьма тонкому наблюдению известного антрополога А.В. Головнева, в дневнике Палласа приходится на встречу с калмыками, которая состоялась в октябре 1768 года в Ставрополе-на-Волге (ныне г. Тольятти). Перезимовав в Симбирске, путешественник отправился исследовать Поволжье и Южный Урал. Во время этих разъездов ученый смог лучше познакомиться с калмыками, которых он характеризует не только обстоятельно, но и с явной симпатией: «Нравы сих жителей во многих делах показались мне лучше, нежели как многие путешественники их описали. По крайней мере, они в том гораздо превосходнее других степных народов. Все те народы, которые имеют своевольную и степную жизнь, от природы склонны к праздности, но калмыки по их бодрому духу действительно могут назваться трудолюбивыми». Народ, который привлек особенное внимание или, как уточняет А.В. Головнев, произвел яркое впечатление, становится упоминаемым (референтным) в последующих описаниях и сравнениях. Для Палласа одним из референтных народов стали калмыки (не исключено, что повышенный интерес к ним связан не только с его личными впечатлениями, но и с научным наследием Г.Ф. Миллера, который посвятил калмыкам свою первую статью о народах России).
За этой экспедицией пристально следил берлинский журнал А.Ф. Бюшинга «Еженедельные известия…», в значительной своей части ориентировавшийся на Россию. В рецензии на труд Палласа о монгольских народах, первый том которого на немецком языке был издан в Петербурге в 1776 году, Бюшинг писал: «Когда г. Паллас уезжал в Россию, мы надеялись на то, что он подтвердит и поднимет еще выше свою славу острого наблюдателя и основательного специалиста в естественной истории, которую он уже снискал здесь. Но никто не мог предположить, что он станет первым настоящим историком монголов…» Во время экспедиции он собрал много коллекций, в том числе буддийскую бронзовую скульптуру. В рапорте в Академию наук из Яицкого городка 11 августа 1769 года Паллас пишет о затруднении, в котором он находится, «имея в виду прекрасную коллекцию литых, хорошо позолоченных, монгольских и калмыцких идолов или бурханов, которую продает здешний атаман. Императорская Кунсткамера по этой части еще очень бедна, и потому я отобрал около 25 идолов, тех, что лучше всего сохранились и отличаются один от другого». Президент АН граф В.Г. Орлов дал согласие на приобретение этих скульптур, поскольку в собрании Кунсткамеры таких экспонатов не было. Под новый, 1770-й год остальная часть коллекции буддийских предметов, отобранных Палласом к покупке, была отправлена с Урала в Петербург. Предприимчивые яицкие казаки продали в Кунсткамеру «мунгальские и калмыцкие бурханы и прочия к идолослужению Далай-ламы принадлежащие вещи за 1030 руб.». Однако со временем следы этого обширного собрания (как и упомянутой выше коллекции Миллера) затерялись. Выявить их в современном буддийском фонде Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) удалось в 2009 году. Благодаря исследованию, проведенному Д.В. Ивановым, «нашлась» коллекция буддийской бронзы, приобретенная Палласом, а вместе с ней и собрание Г.Ф. Миллера. В наши дни эти экспонаты показывают, какие статуэтки украшали джунгарские монастыри и позднее калмыцкие юрты и насколько были обширны связи ойратов с различными районами Центральной и Восточной Азии. Многие из них являются очень качественными работами и красивыми памятниками буддийского искусства, включающими в том числе произведения школы выдающегося монгольского мастера Дзанабадзара.
Для 80-х-90-х годов XIX века характерен широкий интерес к буддизму в России. Наряду с исповедующими буддизм народами росло число приверженцев этой религии, главным образом, из представителей петербургского высшего света и интеллигенции. В 1928 году Б.Я. Владимирцов, один из основоположников отечественного монголоведения, принял буддизм. Буддология начала формироваться как отдельная академическая дисциплина. Одна из главных причин расцвета российского востоковедения в целом связана с общеевропейским процессом, который профессор Манчестерского университета Вера Тольц (внучка академика Д.С. Лихачева) называет вторым восточным Ренессансом. Первый был в конце XVIII века в Европе. В России второй восточный Ренессанс очень подстегивал изучение восточных культур.
Большую роль в этом сыграло Русское географическое общество (РГО), организовавшее несколько экспедиций в Восточную Азию. Мировую славу путешественнику-географу П.К. Козлову, одному из сподвижников Н.М. Пржевальского, принесла монголо-сычуаньская экспедиция 1907-1909 гг. Вера Инбер посвятила ему поэму «Пески истории» (1926):
Кому охота
Шагать без счета,
Когда выдуман самолет?
Кому охота
Искать Хара-Хото –
Город, который мертв?
В ходе этой экспедиции были открыты развалины мертвого города Хара-Хото, являвшегося центром одного из округов тангутского государства Западное Ся, существовавшего в 982-1227 гг. на территории современной Внутренней Монголии (КНР). С 1038 года его государственной религией был провозглашен буддизм. В 1227 году империя тангутов пала под ударами Чингисхана.
Во время раскопок самого крупного из субурганов, находившихся за стенами Хара-Хото, которые проходили с 30 мая по 7 июня 1909 года, была обнаружена целая библиотека (более 6 тысяч) прекрасно сохранившихся свитков, рукописей, книг на тангутском, китайском и уйгурском языках, сотни (более 300) буддийских икон и скульптур, святыни из буддийских храмов. Сооружение первоначально было гробницей. По оси субургана, пронизывая его насквозь, проходил деревянный шест. Вокруг шеста лицом к нему располагались 20 больших, в рост человека, сидящих глиняных фигур. Перед ними, как перед ламами на богослужении, лежали огромные книги из толстых листов серой бумаги с напечатанными знаками неведомой письменности. Есть фотография, запечатлевшая эти скульптуры, среди которых видны стоящие рядом двуглавый Будда и Будда в короне. Их Козлов сумел довезти до Петербурга, а остальные находки закопал в укромном месте. Вернувшись в Хара-Хото через несколько лет, он не сумел найти свой клад…
Описывая раскопки, Козлов вспоминал: «Таких счастливых минут я никогда не забуду, как не забуду сильного впечатления, произведенного на меня и моих спутников двумя образами китайского письма на сетчатой материи. Когда мы раскрыли эти образа, перед нами предстали дивные изображения сидящих фигур, утопавших в нежно-голубом и нежно-розовом сиянии. От буддийских святынь веяло чем-то живым, выразительным, целым; мы долго не могли оторваться от созерцания их – так хороши они были». Предметы буддийского культа из Хара-Хото, в частности иконы и статуэтки, были предварительно, «не откладывая дела до подробного и тщательного изучения», описаны уже в 1914 году С.Ф. Ольденбургом. В начале 1910 года в только что построенном новом здании РГО была развернута выставка коллекций из Хара-Хото. В ноябре того же года она прошла в Русском музее императора Александра III (ныне – Государственный Русский музей). Затем книги и рукописи были переданы на хранение и изучение в Азиатский музей (Институт восточных рукописей РАН), остальные предметы – в этнографический отдел Русского музея, где они хранились до 1934 года, после чего поступили в Государственный Эрмитаж. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский называет скульптуру двухголового Будды в числе своих любимых экспонатов в музее: «Перед нами загадочная и обаятельная фигура с двумя ласково улыбающимися головами, одним туловищем и четырьмя руками». Пиотровский приводит историю, идущую из VII века, о том, как два благочестивых человека мечтали получить статую Будды, но не имели достаточно денег и заказали скульптуру одну на двоих. Будда же, тронутый их благочестием, из сострадания разделил фигуру на две. «Уникальный двуглавый Будда сегодня украшает тангутский зал Эрмитажа… Другой подобной фигуры в мире нет», – заключает известный востоковед.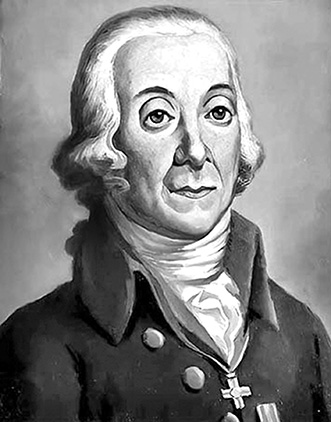
Пётр Симон Паллас, немецкий и русский учёный-энциклопедист, естествоиспытатель и путешественник на русской службе (1767–1810)
Пётр Кузьмич Козлов, русский путешественник, военный географэтнограф, археолог, исследователь Монголии, Тибета и Синьцзяна
Августа Джалаева, Галина Цапник



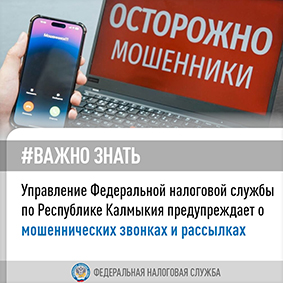




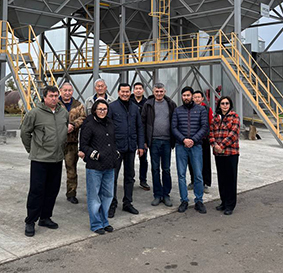














 Республиканская газета, издающаяся на калмыцком и русском языках. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Калмыкии, а также публикует материалы по культуре и языку калмыков.
Республиканская газета, издающаяся на калмыцком и русском языках. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Калмыкии, а также публикует материалы по культуре и языку калмыков.