Органы правосудия в годы Великой Отечественной войны
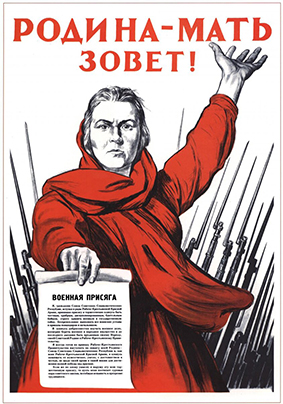
Великая Отечественная война – это особый период в истории отечественного государства и права, когда серьезную проверку прошли не только общественный строй, но и государственное устройство.
В первый день войны, 22 июня 1941 года Президиум Верховного Совета СССР в связи с нападением нацистской Германии на Советский Союз своим Указом утвердил «Положение о военных трибуналах в местностях, объявленных на военном положении, и в районах военных действий». Тексты Указа и Положения были опубликованы в «Ведомостях» ВС СССР №29 (144) от 26 июня 1941 года. В этом же номере были опубликованы указы Президиума ВС «Об объявлении в отдельных местностях СССР военного положения» и «О военном положении».
Как и все другие органы Советского государства, органы правосудия перестроились на военный лад. В годы Великой Отечественной войны органами правосудия были военные трибуналы и общие суды (Верховный суд СССР) краевые, народные, областные суды, Верховные суды автономных республик, но основу советской судебной системы в годы Великой Отечественной войны в фронтовых и прифронтовых районах составляли военные трибуналы. Вся система военных трибуналов возглавлялась в те годы Верховным Судом СССР.
Военная коллегия Верховного Суда СССР действовала как суд первой инстанции по наиболее важным уголовным делам, кассационная инстанция для военных трибуналов, где в качестве меры наказания выносился смертный приговор, надзорная инстанция по делам всех военных трибуналов, кроме военных трибуналов железнодорожных и водных путей сообщения.
23 сентября 1941 года были утверждены штаты новой системы: военные трибуналы фронта, военные трибуналы армий, военные трибуналы дивизий, военные трибуналы района авиабазирования. Корпусные военные трибуналы сохранялись в кавалерийских и танковых частях. При этом принималось во внимание, что такие трибуналы являются подвижными, перебазируются вместе со штабами и сумеют обслуживать части, где бы они ни находились.
Военным трибуналам предоставлялось право рассматривать дела по истечении 24 часов после вручения обвинительного заключения. Приговоры военного трибунала кассационному обжалованию не подлежали, но могли быть изменены или отменены в порядке надзора. Отсутствие кассационного обжалования приговоров в значительной мере компенсировалось усилением судебного надзора по двум линиям: по линии расширения круга судебных инстанций, имеющих право пересмотра вступивших в законную силу приговоров, и по линии расширения круга должностных лиц, которым было представлено право опротестования таких приговоров.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года «О военном положении в местностях, объявленных на военном положении», сократилась подсудность дел народным судам в области общеуголовных преступлений. Передаче военным трибуналам подлежали все дела о военнослужащих; дела о наиболее опасных преступлениях, совершенных любыми лицами на территории действия военного трибунала: о государственных преступлениях, о хищениях социалистической собственности, о разбое, об умышленных убийствах, о насильственном освобождении из мест заключения и из-под стражи и др.
Военные власти имели право передавать на рассмотрение военных трибуналов дела о спекуляции, злостном хулиганстве и иные дела, если командование признает это необходимым по военным обстоятельствам. Также в указе закреплялось, что все дела, направленные против обороны, общественного порядка и госбезопасности, изымались из ведения общих судебных органов и относились к компетенции военных трибуналов.
В 1942 году по мере освобождения советскими войсками территорий, временно оккупированных германскими войсками, на рассмотрение военным трибуналам стали поступать дела о преступлениях гитлеровцев и их пособников. 19 апреля 1943 года был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников». В соответствии с ним для рассмотрения подобных дел специально учреждались военно-полевые суды, которые действовали при дивизиях и корпусах Красной Армии. В их состав входили председатель военного трибунала, начальники политического и особых отделов. Военно-полевые суды рассматривали дела немедленно после освобождения занятых противником территорий.
В указе отмечалось, что к немецко-фашистским преступникам и их пособникам прежде применялась не соответствующая их злодеяниям мера наказания. Отныне немецкие, итальянские, румынские, венгерские и финские фашисты, шпионы и изменники из советских граждан будут караться смертной казнью через повешение, пособники из местного населения – ссылкой на каторжные работы на 15-20 лет.
В годы войны большую роль в борьбе с преступностью продолжали играть народные суды. Война оказала свое влияние на состояние и динамику преступности. В первые же месяцы военных действий сократилось число поступавших в народные суды дел о хулиганстве, кражах и некоторых других преступлениях. Вместе с тем появились и некоторые другие виды преступлений: нарушение светомаскировки, продажа эвакуированного скота, кража из квартир эвакуированных и другие. В местностях, не объявленных находящимися на военном положении, в народные суды поступали главным образом дела о спекуляции, хищении социалистической собственности, растратах, самовольном уходе с предприятия, уклонении от мобилизации в армию или на трудовые работы.
В этот период был принят ряд законов, направленных на усиление борьбы, как с вражеской агентурой, так и с преступными элементами, подрывавшими обороноспособность страны. Вступили в действие нормы уголовного закона, предусматривавшие повышенные санкции за совершение воинских преступлений в военное время и на поле боя. Так, в Положении о воинских преступлениях предусматривалось применение высшей меры наказания при совершении в военное время дезертирства, членовредительства, утраты оружия, самовольного оставления поля боя и оставления погибающего корабля, а также при совершении в боевой обстановке самовольного оставления части. Кроме того, применение этой меры наказания допускалось при совершении в военное время или в боевой обстановке ряда воинских преступлений при наличии отягчающих обстоятельств, например, за неисполнение приказа; сопротивление лицу, исполняющему возложенные на него обязанности по военной службе, совершенное группой лиц с насилием либо применением оружия; мародерство, а равно противозаконное отобрание имущества под предлогом военной необходимости, совершаемые по отношению к населению в районе военных действий) при наличии особо отягчающих обстоятельств.
Помимо этого, уже в ходе войны принимались законодательные акты, предусматривающие уголовную ответственность за совершение правонарушений, ранее не считавшихся преступными. Этим достигалась, с одной стороны, надлежащая правовая охрана общественных отношений, имеющих важное значение для обороноспособности страны и мобилизации всех сил и средств на разгром врага, а с другой, – путем запретов предписаний поступать так, как требует обстановка военного времени, уголовные законы побуждали к соответствующему поведению тех лиц, на которых они распространялись.
Нарушение различных правил зачастую влекло суровые санкции по законам военного времени. Например, 22 июня 1941 года был издан приказ о местной противовоздушной обороне Москвы и Московской области, который обязывал обеспечить светомаскировку промышленных и жилых объектов, транспорта, станций, вокзалов, улиц города. Уже 24 июня военный трибунал войск НКВД Московской области уже начал рассматривать дела нарушителей. К примеру, к ответственности по ст. 59-6 УК РСФСР («Отказ или уклонение в условиях военного времени от выполнения повинностей») привлекли двух жителей Москвы. Одним из них был башмачник Несмелов. Группа самозащиты, проверяя состояние светомаскировки, обнаружила свет в его комнате. На предложение немедленно выключить свет или завесить окно, Несмелов нецензурно обругал дежурных и выгнал их. Утихомирить жильца смогла только милиция. Военный трибунал приговорил нарушителя к лишению свободы сроком на 10 лет.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1941 года к подсудности военных трибуналов отнесли и дела о самовольном уходе рабочих и служащих с предприятий военной промышленности. Сотрудники военных заводов отныне считались мобилизованными, а самовольный уход грозил суровым наказанием.
Так, специалист одного из военных заводов Шапиро и рабочие Лебедушкин и Богданов после эвакуации завода добились у администрации отпуска на пять дней «для устройства домашних дел» и сбежали с завода, вернувшись в Москву. Военный трибунал приговорил Лебедушкина к 6 годам, а Шапиро и Богданова – к 8 годам тюремного заключения.
В военные годы органы правопорядка боролись с хищениями общественной собственности. Эта категория дел оставалась одной из самых распространенных. Во время московской паники в октябре 1941 года, когда немцы подходили к столице, расхитителей оказалось особенно много. К примеру, 16 октября директор обувной фабрики Варламов собрал рабочих и объявил, что предприятие закрывается, обосновав это угрозой, нависшей над Москвой. Директор разрешил рабочим опустошить фабричные склады. «Берите валенки и бегите из Москвы», – говорил Варламов и сбежал сам, похитив 200 литров бензина, валенки и полушубки. Военный трибунал войск НКВД Московской области приговорил его с сообщниками к расстрелу с конфискацией имущества.
С первых дней войны органы юстиции вели беспощадную борьбу со спекулянтами. Например, в декабре 1941 года получили по 5 лет тюремного заключения Суханова за продажу на рынке белого хлеба по спекулятивной цене, Неяглов, задержанный при попытке продать махорку по 20 рублей за стакан, и Бревнова, продававшая по 2 рубля папиросы стоимостью 11 копеек.
По некоторым данным за четыре года войны трибуналы на фронте, в прифронтовой полосе и в местностях, находящихся на военном положении, осудили 2 530 663 человека, из них, по неполным сведениям Генштаба, 994,3 тысячи военнослужащих (284 344 человека были приговорены к высшей мере наказания (по другим данным, 217 080).
Вместе с тем, соответствующему командованию предоставлялось право приостанавливать исполнение приговора с высшей мерой уголовного наказания, а в исключительных случаях – право утверждения приговоров с немедленным приведением его в исполнение.
Командованию также были предоставлены полномочия по возбуждению ходатайств об освобождении от дальнейшего наказания военнослужащих, в отношении которых исполнение приговора было отсрочено с направлением осужденного в штрафную часть, по возбуждению ходатайств о снятии с этих лиц судимости и т.д.
Так, в отношении 422,7 тыс. осужденных военными трибуналами военнослужащих, т.е. почти к половине, в соответствии с примечанием 2 к ст. 28 УК РСФСР была применена отсрочка исполнения приговора с оставлением или направлением в действующую армию. Так, во второй половине 1941 года военные суды приговорили к лишению свободы около 66% осужденных военнослужащих, из них отсрочку предоставили 42%. В 1942 эти цифры составили соответственно 80% и 54%, а в 1943 году – 88% и 61%.
Герман Максимов,
судья Элистинского городского суда

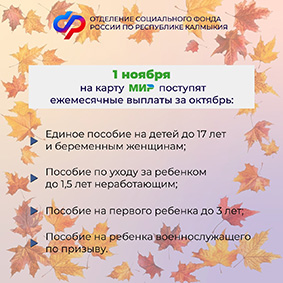



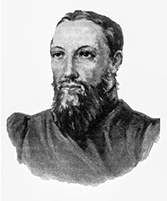

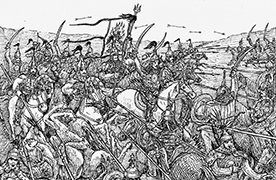















 Республиканская газета, издающаяся на калмыцком и русском языках. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Калмыкии, а также публикует материалы по культуре и языку калмыков.
Республиканская газета, издающаяся на калмыцком и русском языках. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Калмыкии, а также публикует материалы по культуре и языку калмыков.