Голос поколения

Владимир Нуров, известный калмыцкий писатель, ребенком пережил все тяготы сталинской ссылки народа. Он видел, что власть не только не считается с честью и правами народа, его нравственными нормами, культурными ценностями, но и безжалостно унижает достоинство людей, размещая в бывших коровниках и свинарниках и устанавливая при этом жесткий надзор. Предсмертный взгляд голодных детей, несчастных сверстников, заброшенных вместе с матерями на глухую лесную делянку, преследует его до сих пор. Он не забыл горького запаха черной хлебной корки, которой делилась мать, возвращаясь вечером с работы.
Отец его, Дорджи Нуров, сельский учитель в мирной жизни, воевал на Ленинградском фронте. Он погиб 17 января 1944 года, в дни, когда его жена, оглушенная обрушившейся бедой, билась изо всех сил, чтобы не потерять сына, сохранить семейный очаг. И этот трагический опыт во многом определил и продолжает определять жизненные и творческие устремления Владимира Нурова.
Он родился в апреле 1937 года в хотоне Балг Приютненского улуса. Приятель отца, врач Алексей Романов принял мальчика и дал ему имя Володя, поскольку событие состоялось в преддверии дня рождения В. И. Ленина.
В 1953 году, после смерти Сталина, Володю, учившегося в шестом классе, пригласил к себе комендант и предложил изменить дату его рождения.
‒ В этом случае, у тебя будет чистый паспорт, без пометок, что ты состоишь на специальном учете в органах внутренних дел, ‒ сказал он.
Володя согласился и с тех пор датой его рождения значится 1 января 1938 года. По восточной учтивости не стал допытываться у коменданта о причинах его решения.
В следующем году он окончил семилетнюю школу и поступил в училище механизаторов. Выбор будущей профессии был продиктован реалиями жизни. Ссылка научила калмыков не гнушаться никакой работы. Окончив училище, работал трактористом, затем лесорубом.
Наступила оттепель. Стали меняться общественные ориентиры. Пришла весть о восстановлении национальной автономии. Вопрос о том, возвращаться или не возвращаться на родину, перед людьми не стоял. В апреле 1957 года земляки поручили Владимиру заказать в Ялуторовске десять легких товарных вагонов для выезда в Калмыкию. В середине мая они прибыли в Дивное. В степи бушевала весна, над дорогой заливался жаворонок. В Приютном кое-как разместились в старых бараках. Работы нет. Кинулись в Ульдючины, Воробьевку ‒ та же картина. Дед Эвгеев Намин сказал: поедем в Бугу. Это было их родовое село, в котором к тому времени сохранилось всего два-три здания.
Жизнь научила тогдашние поколения не пасовать перед трудностями. Владимир с группой молодых мужчин принялся на берегу речки Хар Зууха бить саман. И за два с лишним месяца совместными усилиями они подняли десяток домов. Так он восстановил отцовский очаг, который не только придал ему уверенность в своих силах, но и укрепил в мыслях о нерасторжимости жизни и связи поколений.
Шел август 1957 года. В один из дней к Нуровым заглянул сосед и сказал, что в был в Элисте, где молодых ребят, имеющих среднее образование, направляют на учебу в разные города, в частности, Черкесск. «Смотри, Володя, не упусти время!» ‒ бросил он в заключение. Слова эти подстегнули юношу, часто размышлявшего о дальнейшем жизненном пути. Владимир тотчас выехал на велосипеде в Ульдючины, где земляк Бора Лаглаев вызвался поехать с ним в Элисту. Он близко знал работника прокуратуры Тавшку Самохина, который, не мешкая, созвонился с кем-то из руководства Управления образования. Выяснилось, что отобрали девяносто человек для сдачи экзаменов на калмыцкое отделение Черкесского педагогического училища. Владимиру посоветовали самостоятельно выехать в Черкесск.
Он в тот же день вернулся домой и, уложив сменное белье в балетку, снова на велосипеде выехал в Ульдючины, чтобы успеть на автобус, курсирующий между Элистой и Ставрополем. Автобус прошел мимо, не останавливаясь. Владимир на попутной машине догнал его в Приютном. Свободных мест не было, люди в автобусе стояли впритирку. По дороге он познакомился с Ниной Громовой, которая также собралась поступать в педучилище. С дорожными приключениями они глубокой ночью добрались в Черкесск. С трудом устроились в гостинице. Наутро пришли в училище, сдали документы. На следующий день начались вступительные экзамены. Владимир успешно выдержал испытания. Вместе с ним на четырехгодичное отделение поступили Василий Кирюхаев, Владимир Манджиев, Борис Бацаев, Нина Шаванова, Екатерина и Лидия Натыровы.
Калмыцкий язык в училище преподавал Анатолий Кичиков. Учебников не было, из пособий имелись лишь два экземпляра книги эпоса «Джангар», выпущенной в 1940 году. Несмотря на эти трудности, студенты учились прилежно, стараясь ничего не упустить в устных беседах с преподавателем.
После окончания училища Владимира Нурова назначили заведующим начальной школой в Ульдючинах. На следующий год он поступил на калмыцкое отделение Ставропольского педагогического института. Но вскоре призвали на срочную службу, где заметили уровень его подготовки и назначили заместителем начальника отдела дивизии по комсомольской работе.
В 1968 году Владимир Нуров с отличием окончил Калмыцкий педагогический институт и получил направление на работу в газету «Хальмг үнн», с которой начал сотрудничать еще в 1959 году. В газете, рядом со старшими коллегами, он научился работать со словом, отличать порой неожиданные нюансы его значений, жанровые особенности произведений. Это была великолепная школа профессионального становления. По сути он повторил путь своих старших коллег, ставших писателями, сотрудничая именно в редакциях национальных изданий.
Творческая индивидуальность ‒ явление сложное. Калмыцкие писатели не сразу приняли поэтический стиль Владимира Нурова. Он был поэтом поколения, детство и юность которого пришлись на годы ссылки, когда лишний раз старались не упоминать о своем калмыцком происхождении, не говоря о том, чтобы изучать историю и культуру народа. За него вступился Давид Кугультинов, заявив, что следует считаться с индивидуальностью поэта. К чести Владимира Нурова, он и сам обратил внимание на язык своих произведений, сумел учесть критические замечания коллег.
Темой и смыслом его творчества стала жизнь собственного народа. Суть национальных ценностей воспитала в нем бабушка Булгун, затем ‒ сама жизнь и история народа, печальная, горькая до слез.
Этнокультурный контекст составляет основное содержание его произведений, но это нисколько не говорит о скудости его художественного мира, потому что кому, как не ему, умиравшему от голода, тонувшему под толщей воды, видевшему белый мир смерти, рассказывать о своем народе, чья жизненная стойкость стала для него образцом поведения и источником вдохновения. Примером была родная мать, которая все годы жизни непреклонно и свято оставалась верной памяти мужа.
Он помнит бойцов НКВД, выселявших их семью из родного дома. Не забыл колесный перестук вагонов, объятых ужасом тоски. Помнит стариков, хранивших горькое молчание, видит их внуков, кусавших губы, чтобы не расплакаться. Он не может забыть прошлое. Да и как стереть из памяти годы, когда страстно ждал отца. Как забыть сибирское детство, когда людская жестокость унесла жизни многих его сверстников, вина которых состояла лишь в том, что они родились в калмыцких семьях. Но ушли они не бесследно. Их мысли и голоса продолжают жить в стихах Владимира Нурова. Поэт не замыкается в собственных переживаниях, ибо прошлое для него ‒ это жизнь близких ему людей. Он вынес все невзгоды, чтобы быть голосом и болью своего поколения:
Мой Реквием ‒ лишь капля в Чаше слез,
Но ведь и капля стачивает камень,
Чтоб снег беспамятства могилы не занес,
Я в ваших душах раздуваю пламень!
Большая боль не вопиет, ‒ писал незабвенный Кайсын Кулиев. Вот и Владимир Нуров достаточно сдержан, когда говорит о самом важном в жизни. Он уверен, что пока жива память, бессмертен родной язык, и людям «не грозит забвенье и сиротство». Сама же память нуждается в бережном отношении и постоянной актуализации.
Я далек от мысли намеренно сужать рамки поэзии Владимира Нурова, говорю о главном в его творчестве, о котором он сам не раз писал в стихах, утверждал в интервью и беседах. Он автор замечательных лирических стихов, посвященных любимой женщине, людской доброте, природным явлениям.
Крупным достижением в творчестве писателя и калмыцкой литературе последнего десятилетия явился роман «Белобородый старец», события в котором охватывают период с 1930 по 1941 год, первые месяцы Великой Отечественной войны.
На родине героев романа, Маныческом улусе, идет коллективизация. Местные власти решили из хотона Бугу выслать в Сибирь несколько, по их мнению, кулацких семей. В этот список попали Надвид Дорджиев с родителями и Бадма Нимеев, честный труженик. В годы коллективизации из Калмыкии подобным образом было выселено до пятнадцати тысяч человек.
Надвид вечером приехал к Нимеевым и сказал: не время длинных речей, у Бадмы пятеро детей, не стоит рисковать в тайге их жизнями, перепишите скот на его брата зурхачи, астролога Чёмпела, я помогу оформить документы. Все замолчали, не ожидая такого предложения. Чёмпел, на мгновение задумавшись, согласился, что в создавшейся ситуации это наиболее верное решение.
Далее рассказывается о том, как Надвид и Чёмпел устраивают свою жизнь в Сибири, где их, понятно, никто не ждал. Ссылку они восприняли как испытание, предначертанное свыше. Им, как и Бате Гаряеву, выселенному с семьей из села Улан-Хол, пришлось столкнуться с немалыми трудностями, пережить недоверие местных жителей, противостоять откровенной клевете. Они с достоинством выдержали испытания и непредвзятым отношением к людям, своим трудолюбием завоевали подлинное уважение у односельчан. Знание народных методов лечения позволило костоправу Джаву, отцу Надвида, и Чёмпелю, обладавшему недюжинными экстрасенсорными способностями, поставить на ноги мальчика, разбившегося при падении с лошади. Они сумели стать необходимостью села. Пелагея, русская красавица, полюбила Чёмпела и вышла за него замуж. История их любви, строительства дома, рождение детей под пером писателя приобретают символическое значение.
Другая линия романа связана с семьей Манджи Алтынова, репрессированного по обвинению в «буржуазном национализме». Он отбывает заключение на Колыме, жена его Ноган, учительница русского языка, уволенная с работы, приходит в отчаяние. Лишенная крова, она с сыном Арсланом вынуждена скитаться в поисках ночлега. Секретарь Маныческого улускома партии Нармаев помогает ей выправить паспорт на девичью фамилию и устраивает на работу в городе Георгиевске. Валентина Пашкова, дочь известного ленинградского профессора, уступает ей с сыном комнату в своем доме.
Такой же цельностью характеров отличаются и следующие поколения героев романа. Бокта, старший сын Бадмы Нимеева, военный летчик, получает назначение в часть, расположенную в Омске. Арслан, окончив десятый класс, поступает в военное училище. Автор оставляет своих героев на пороге Великой Отечественной войны.
Писателю нельзя отказать в знании жизни и истории переломных эпох. Роман основан на реальных событиях. Прообразом главного героя послужил бывший буддийский монах Чёмпел Нимеев, которого не стало в середине семидесятых годов прошлого столетия. Совместить в романном повествовании реалии жизни с художественным вымыслом ‒ задача не из легких. Тем не менее, автору удалось свести действия героев и звенья событий в единое пространство, найти необходимую соразмерность в изображении быта и духовного бытия человека, создать объемные картины действительности и яркие, запоминающиеся образы людей, сильных внутренней свободой.
Возможно, кто-то решит, что роман посвящен прошедшей эпохе, и будет неправ. Это диалог со временем, который человек ведет всегда, пытаясь осмыслить собственную жизнь и век, выпавший на его долю. Писатель продолжает в романе начатый им разговор об истории и судьбе народа, предназначении человека.
На калмыцком языке роман выдержал два издания. Написан он вдохновенно, касаясь женской красоты, картин степной и сибирской природы, автор каждый раз находит верный, волнующий душу читателя поэтический слог. И все же общественная судьба романа будет зависеть от того, насколько удачным получится его русский перевод.
Роман является плодом жизненного опыта и длительных размышлений писателя. Владимир Нуров наглядно продемонстрировал ценность и своеобразие национальной художественной традиции и тем самым опроверг досужие толки о закате калмыцкой литературы.
Владимир Нуров много писал о своей малой родине, хотоне Бугу. Несмотря на нашу разницу в возрасте, такой хотон был и в моей судьбе. Хочу поделиться стихотворением, которое я посвятил своему старшему другу:
Хар һазрин дунд,
Халтрын-Борин үзүрт
Хөр һару өрктә
Хотн мана бәәлә.
Өрүн асхни тольд
Өңгтҗ холас цәәдмн.
Сөөднь одта теңгр
Сана сергәҗ делврдмн.
Насн заян хойрм
Нарта нутглам холвата.
Зун үвл уга
Зүркм тенд уята.
Өдр сөөһин даранд
Өрвкҗ делкә делснә.
Камб шарлҗна үнр
Каңкнҗ бийим тәвхш.
Теңгр һазрт доңһдҗ,
Тоһрун дууһан өгнә.
Салькнла ууд булалдҗ,
Седклм нутгурн ниснә.
Эңкр хоша улс,
Эргндк хотхр, толһа,
Зүүһәр хатхсн мет,
Зүүдндм орҗ сангдна.
Киит халу даасн
Көгшдин халта сурһмҗ
Чееҗдм асҗ төөнрәд,
Чидхдм түшг болна.
Владимир Нуров обеспокоен размыванием этнокультурной идентичности народа, возможной утратой национальной самобытности. В этом отношении он выступает сторонником сохранения и развития базовых ценностей этноса. Как художник и человек не приемлет личностного и национального эгоцентризма, наоборот, приветствует душевную открытость людей и глубокую интеграцию культур. Он не устает повторять, что распад духовного ядра этноса грозит саморазрушением народа и негативными процессами. И все эти десятилетия неизменной в его сердце остается любовь к своему народу и родной степи, любовь, которая дарит силы жить и творить.
Василий Церенов





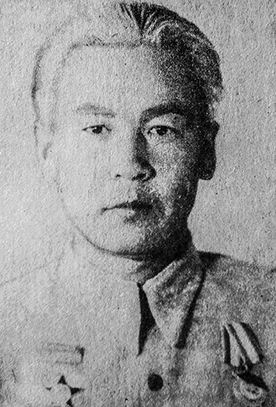

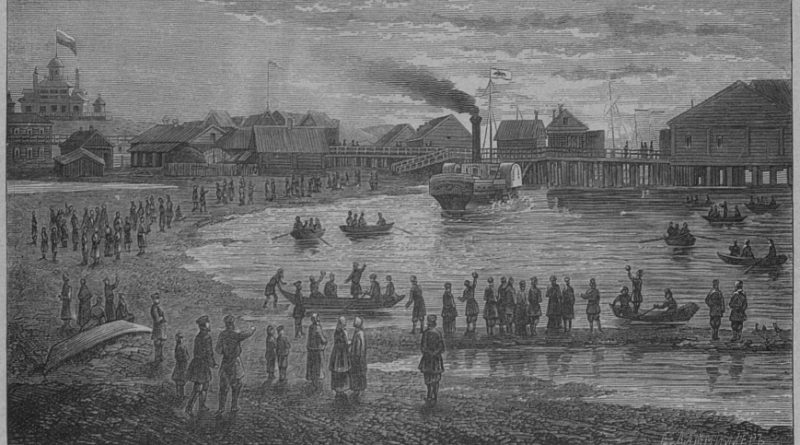














 Республиканская газета, издающаяся на калмыцком и русском языках. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Калмыкии, а также публикует материалы по культуре и языку калмыков.
Республиканская газета, издающаяся на калмыцком и русском языках. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Калмыкии, а также публикует материалы по культуре и языку калмыков.