Воспитанницы Шереметевых глазами историка

«Хранитель Кусково» – так называли в свете графа С.Д. Шереметева, последнего владельца имения (1844-1918). Образованнейший человек, профессиональный историк, председатель и член множества гуманитарных российских и международных обществ, он внес большой вклад в развитие культурной жизни России второй половины XIX – начала XX веков.
Из-под пера Сергея Дмитриевича вышло одиннадцать выпусков серии «Отголоски XVIII века» (за 1896-1905 гг.), содержавших исторические материалы из семейного архива Шереметевых. Каждый выпуск представляет собой тематическое издание; VI-й посвящен двум калмычкам из знатных семей – Анне Николаевне и Екатерине Борисовне, которые с детства воспитывались в семье Петра Борисовича и Варвары Алексеевны Шереметевых.
Важным фактором было деление дворян на титулованную знать (князей, графов, баронов) и нетитулованное дворянство (большинство сословия). Так, например, по высочайшему именному указу, данному Сенату, от 6 июля 1745 года потомки хана Дондук-Омбо, окрестившись, официально получили фамилию Дондуковы с княжеским титулом. Этим было положено начало аристократическому, занесенному в дворянские родословные книги, роду, что означало его окончательную ассимиляцию. Впоследствии ряд представителей калмыцкой знати претендовали на княжеский титул в Российской империи, однако всем им было отказано. Прошение Данзана Тундутова в департамент герольдии Сената в начале XX века о перемене фамилии на «Тундутов-Дондуков» не было удовлетворено.
Таким образом, в соответствии с этой градацией род Шереметевых принадлежал к титулованной знати.
О графине Варваре Алексеевне С.Д. Шереметев пишет с глубокой симпатией: «Вглядываясь в черты ее уже в преклонном возрасте, трудно представить себе молодую и смелую княжну, которую сам Петр Великий учил стрелять из карабина, ту княжну, которая перед ним так хорошо танцевала менуэт… За нею было прошлое, не лишенное испытаний и бурь… Она сохранила врожденную доброту и осталась примерною женою и матерью». Единственная дочь и наследница огромного состояния канцлера А.М. Черкасского, Варвара Алексеевна в 1743 году вышла замуж за графа Петра Борисовича Шереметева, сына фельдмаршала Б.П. Шереметева, героя «Полтавской виктории» и всей Северной войны. Две знатные фамилии объединили свои состояния, включавшие 44 имения в 28 российских губерниях и 140 тыс. душ крепостных.
Детские годы Аннушки и Катерины прошли в Санкт-Петербурге, где Шереметевы располагали двумя роскошными дворцами, вошедшими в историю города как Миллионный дом (на Неве) и Фонтанный дом. «Росли они в полном довольстве; за ними с любовью следила графиня Варвара Алексеевна… Калмычки росли как дети дома, называя Варвару Алексеевну бабушкой; они были окружены самыми нежными ее заботами и попечениями», – сообщается в семейной хронике. В одном из писем графиня обращается к Аннушке: «Душа моя, Аннушка, здравствуй со всей своей свитой! Приезжай, душа моя, к нам скорей. Боже, благослови путь ваш и дай Боже в радости тебя видеть… Баба твоя Варвара Шереметева… С ямщиком, который отдаст тебе это письмо, посылаю тебе кулечек сухариков Вышневолоцких, а мы сегодня обедали в Вышнем Волочке».
Летом 1767 года П.Б. Шереметев принял активное участие в составлении проекта нового Уложения, по которому должно было бы облегчаться положение крестьян. Он изъявил готовность освободить крестьян от крепостной зависимости. Однако вряд ли Шереметевы были альтруистами в этом вопросе, они понимали, что крестьяне, особенно «капиталистый» их тип, своей деятельностью представляли определенный процесс самовозрастания капитала, то есть были сильным источником его накопления. В жизни этого рода выдерживался принцип «беречь крестьян – это сила России», который передавался из семьи в семью.
Граф П.Б. Шереметев отличался широтой взглядов и по другим вопросам государственного устройства. После роспуска Уложенной комиссии работа по выработке законопроектов по отдельным проблемам продолжилась в частных комиссиях. Шереметева, члена одной из них, заинтересовал кодекс монголо-ойратских законов 1640 года «Великое уложение» («Ики цааджин бичик») с точки зрения управления регионами. Он стал первым издателем этого исторического памятника права в русском переводе, опубликовав его в «Трудах Вольного экономического общества». По мнению исследователя К.О. Эрдниевой, перевод был осуществлен Я. Самсоновым, а позднее дополнен исправлениями и примечаниями В.М. Бакунина.
После смерти жены в октябре 1767 года, а потом и старшей дочери Анны, скончавшейся от черной оспы накануне своей свадьбы, граф Петр Борисович не мог оставаться в столице, где прошли счастливые годы его жизни. Выйдя в отставку, он покинул Петербург и последние двадцать лет провел в Москве и в своих подмосковных имениях.
Наиболее любимой его загородной резиденцией под Москвой стало село Кусково. В 1770-х годах граф превратил его в великолепный дворцово-парковый ансамбль. В 1769-1775 годах было построено его главное сооружение – дворец. Усадебный комплекс предназначался для пышных приемов гостей и увеселений. 30 июня 1787 года Анна Николаевна присутствовала на торжествах по поводу приезда императрицы Екатерины II и князя Г.А. Потемкина в Кусково. Вот как описывает этот прием французский посол граф Л.Ф. Сегюр: «В прелестно выстроенном театре была представлена большая опера; не зная языка русского, я мог только судить о музыке и балете; первая изумила меня своей приятной гармонией; балет же – поражал изящным богатством одежд, красотой, искусством танцовщиц и легкостью мужчин. Более всего мне казалось непостижимым, что стихотворец и музыкант, составившие оперу, архитектор, воздвигнувший театр, живописец, его разукрасивший, певцы, актеры и актрисы, танцоры и балерины в балете, музыканты, составившие оркестр – все, без исключения, были крепостными людьми графа Шереметева, который тщательно сам заботился о воспитании и обучении каждого, сообразно дарованиям и наклонностям природным. Та же пышная роскошь явилась и за происходившим ужином; … несметное число хрустальной посуды, покрывавшей стол, за которым сидело около ста человек, было разукрашено вделанными в каждую вещь дорогими, неподдельными драгоценными каменьями разнообразнейших цветов и пород».
К слову сказать, на этом приеме была исполнена опера Гретри «Самнитские браки», где в главной партии Элианы выступила крепостная актриса Прасковья Жемчугова, обладавшая красивым лирико-драматическим сопрано. Императрица была поражена ее игрой и наградила певицу алмазным перстнем.
Аннушка и Катерина, проживавшие в семействе Шереметевых на правах родственниц, находились внутри этих событий, не оставаясь сторонними наблюдателями. Их история выходит за рамки сугубо краеведческого интереса. В их письмах, опубликованных С.Д. Шереметевым, отражена повседневная жизнь окружающих. Блестящий исследователь Ю.М. Лотман в своей книге «Беседы о русской культуре» пишет о ценности такого вида источников – «текстов на языке быта», позволяющих «видеть историю в зеркале быта, а мелкие, кажущиеся порой разрозненными бытовые детали освещать светом больших исторических событий». Период правления Екатерины II называют «золотым веком дворянства». Оно сыграло основную роль в развитии российской культуры XVIII-XIX веков. Дворянство было главным заказчиком и коллекционером произведений искусства. Его вкусы и бытовая культура активно влияли на жизнь других сословий русского общества, часто определяя сам стиль эпохи.
Аннушка
Анна Николаевна, любимая воспитанница его жены, была для графа П.Б. Шереметева связующей нитью с дорогим для него прошлым. По свидетельству С.Д. Шереметева, следы постоянных забот об Аннушке встречаются весьма часто в бумагах домашнего архива. С годами ее присутствие сделалось для графа необходимостью. Она была умна, развита, добросердечна. Младшая его дочь, Варвара, была глубоко несчастлива в браке с графом А.К. Разумовским, что приносило отцу немало огорчений. Любимый сын Николай уже повзрослел и жил своей жизнью. В отношениях Аннушки с графом видна патриархальность и дружба: она называет его не иначе, как дедушка.
В 1780 году П.Б. Шереметев был избран московским губернским предводителем дворянства. В декабре 1782 года состоялась его поездка в Петербург с депутацией московского дворянства для представления императрице Екатерине II. За все время пребывания в столице Петр Борисович находится в постоянной переписке с Анной Николаевной. Он с большими подробностями описывает ей почти каждый свой день, проведенный в Петербурге. В ее ответных письмах звучит искренняя, неподдельная забота о его здоровье. В обсуждении событий культурной и придворной жизни столицы она проявляет удивительную осведомленность, умение анализировать их. «Что же изволите писать, что до сих пор вы все не имели времени отдохнуть, я оному очень верю, когда изволите быть всякий день два раза во дворце… и много там изволите нового и хорошего увидеть, в числе чего, я думаю, и статую Петра Первого видели», – пишет Анна Николаевна 19 декабря 1782 года. Этот монументальный памятник на Сенатской пощади был открыт незадолго до того, 7 августа 1782 года. Из письма графа к Аннушке: «Монумент Петра Великого украшение городу великое сделал, и я уже третий раз, как объезжаю его и не могу еще наудовольствоваться. Ездил нарочно на Васильевский остров смотреть оттудова, совершенно хорошо».
В одном из писем Петр Борисович делится впечатлениями от вечера, проведенного в обществе великого князя Павла Петровича, сына императрицы, и его супруги, с которой танцевал и играл в карты: «… великая княгиня и принцесса Виртембергская такая маленькая ростом и худа очень, как ребеночек». На что Анна Николаевна отвечает: «О принцессе Виртембергской, что изволите писать, то она, по-видимому, не очень украшает фамилию своей красотой, а может быть своими хорошими качествами». Она оказалась права: имя Марии Федоровны, урожденной принцессы Софии Доротеи Вюртембергской, второй жены Павла I, впоследствии носила вся система благотворительных учреждений Российской империи.
Невольную улыбку вызывает письмо старого графа, московского старожила, обладавшего лучшими театром и оркестром в России: «Вчерась был концерт во дворце, весьма холодной и скушной. Жебети пищала и Камаскина. Все кашляют и охрипли, а голоски и без того не очень задорны, то все мы рады были, что кончили ранее». В ответном письме от 5 января 1783 года Анна Николаевна мягко увещевает Петра Борисовича: «Хотя и красавица баронесса Жибете и Камаскино пели, но оне большаго удивления не могли сделать вам, потому что вы уже сколько раз их слышать изволили».
К письму графа от 8 декабря 1782 года была приложена записка его сына Николая, адресованная Анне Николаевне: «Аннушка, голубушка, здравствуй! Поклонись от меня княжне [кн. Масальская] и Парашиньке [Прасковья Ивановна Ковалевская]; Н. Шереметев».
Анна была лет на десять старше Параши. Она знала ее с детства, когда семилетнюю дочь сельского кузнеца из крепостных привезли в Кусково и стали обучать способную девочку пению, драматическому искусству, иностранным языкам. Анна Николаевна была свидетельницей одной из самых романтических историй любви блестящего аристократа графа Николая Петровича Шереметева и одной из самых известных актрис и певиц конца XVIII века Прасковьи Жемчуговой (Ковалевой).
По возвращении из Петербурга Петр Борисович уже не покидал Москвы и ее окрестностей. Его кончина 30 ноября 1788 года не могла не отразиться на судьбе Анны Николаевны и Екатерины Борисовны, хотя сын его, Николай Петрович, продолжал их поддерживать как воспитанниц матери. Естественным образом встал вопрос об устройстве их самостоятельной жизни. Двоюродный племянник П.Б. Шереметева Василий Сергеевич, близкий друг Николая, рекомендовал в качестве жениха для Аннушки своего сослуживца Петра Ивановича Фатьянова. Он был из костромских дворян, за штурм Очакова произведен в секунд-майоры. В 1789 году, выйдя в отставку, он женился на Анне Николаевне. У них было двое детей – Варенька и Петруша, названные в честь Варвары Алексеевны и Петра Борисовича Шереметевых. В 1795 году П.И. Фатьянов был произведен в чин премьер-майора, относившийся к VIII классу «Табели о рангах». В письмах к Аннушке тех лет, как полагалось, указывается титул адресата – «Милостивая государыня Анна Николаевна, ея высокоблагородие Фатьянова». Из письма П.И. Фатьянова к графу Н.П. Шереметеву от 28 ноября 1799 года становится известно, что Анна Николаевна скончалась.
Катерина
Она приходилась, по некоторым данным, двоюродной сестрой Аннушке, причем младшей, поскольку на протяжении всей жизни была опекаема Анной Николаевной. В доме Шереметевых девочки получили равным образом хорошее воспитание, образование, владели общепринятым в дворянском обществе французским языком. Письма графа П.Б. Шереметева к Анне Николаевне непременно заканчивались словами: «Катерине Борисовне мой поклон». В начале 1770-х гг. Катерина проживала в Петербурге, в доме графини Анны Карловны, вдовы канцлера М.И. Воронцова, с которой граф Петр Борисович был в дружбе. Она была племянницей Екатерины I, дочерью ее старшего брата, Карла Скавронского, возведенного в 1727 году в графское достоинство.
Великолепный дом Анны Карловны, ценительницы искусства, постоянно посещали артисты, писатели, ученые, государственные люди. После смерти графини ее брат Мартын Карлович Скавронский с сочувствием отнесся к желанию Катерины вернуться к Шереметевым. По отзывам современников, это был покладистый и добрый человек. Сам родившийся крестьянином, он проявлял заботу о простых людях.
С 1776 года Екатерина Борисовна жила в имении Кусково, рядом с любимой «сестрицей» Анной Николаевной. В 1796 году переехала в с. Гагарино, имение Вишневских, которые приходились родственниками князю С.Б. Куракину, одному из основателей московского Английского клуба. 8 августа 1796 года Катерина писала Аннушке: «Душевно сожалею, матушка сестрица, что вас только мне недостает и что часто не могу получать от вас известий, а то право весело. И село барское, положение прекрасное… Петрушу целую и желаю, чтоб он начал ходить к моему приезду». Она тяжело пережила смерть Анны Николаевны, стала подолгу болеть. В письме к графу Николаю Петровичу Шереметеву от 28 ноября 1804 года она выражает ему благодарность за присланные 500 рублей: «А я теперь по милости генеральши Прасковьи Михайловны Раевской живу у нея; …она пожаловала мне у себя флигелец, чтоб в нем жила, покуда выздоровею, и с мая месяца я на всем ея содержании поживаю…»
На этом переписка заканчивается.
В завершение своего повествования С.Д. Шереметев указывает: «В числе сохранившихся в Кускове предметов по описи [1812 г.] значится: «восковой портрет Анны Николаевны»; из той же описи видно, что портрет калмычки «в овальной раме» – это портрет Екатерины Борисовны». Долгое время эта запись оставалась без внимания. Речь в ней идет об известном «Портрете калмычки Аннушки» кисти Ивана Аргунова (1767) и «овальном портрете» девочки-калмычки работы Н.Б. Делапьера (1772). Из-за ошибочной атрибуции персонажем французского художника считалась Анна Николаевна, героиня портрета И. Аргунова. В 2000 году искусствовед Н.Г. Преснова обнаружила архивный документ, где был указан «портрет калмычки Катерины Борисовны в раме золоченой овальной «La Pierre», подтверждающий свидетельство С.Д. Шереметева. В пользу этого утверждения говорит и тот факт, что модели на обоих полотнах не похожи между собой при всем этнографическом сходстве внешности девочек (что и дало, очевидно, повод считать, что это одно и то же лицо). Аннушку отличает менее раскосый, миндалевидный, а не зауженный разрез глаз и более вытянутое, не столь скуластое лицо. Для Делапьера характерна некоторая небрежность манеры и мягкость, декоративность рисунка.
Одним из первых заказчиков французского портретиста Н.Б. Делапьера по прибытии его в Россию был граф П.Б. Шереметев, один из самых влиятельных сановников Российской империи. Сначала Делапьер пишет два небольших овальных портрета детей графа – юного Николая и его сестры Варвары. Кульминацией художественных контактов Делапьера и семьи Шереметевых можно считать великолепный портрет графа Петра Борисовича, выполненный в 1772 году. Тогда же художнику был заказан портрет Катерины, на котором она, как и Аннушка, держит развернутую на зрителя гравюру с изображением своей благодетельницы, графини Варвары Алексеевны.
Благодаря биографу рода графу С.Д. Шереметеву и атрибуционному открытию искусствоведа Н.Г. Пресновой мы располагаем сегодня парными портретами двух очаровательных калмычек – Аннушки и Катерины, живших в далеком XVIII веке (к сожалению, мы не знаем их калмыцких имен). Написанные разными художниками, они объединены общей идеей и композицией. Они взаимодействуют между собой, показывают зрителям отношения двух любящих сестер, в силу обстоятельств часто разлучаемых. Эти портреты в очередной раз убеждают, что история невозможна без визуального образа, он во много раз сильнее вербального, словесного ее изложения.
Августа Джалаева,
Галина Цапник




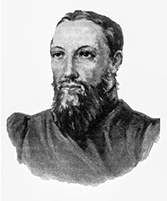

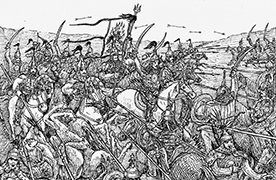















 Республиканская газета, издающаяся на калмыцком и русском языках. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Калмыкии, а также публикует материалы по культуре и языку калмыков.
Республиканская газета, издающаяся на калмыцком и русском языках. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Калмыкии, а также публикует материалы по культуре и языку калмыков.