Три подвига Морхаджи Нармаева.О документальной повести Василия Церенова

На днях вышла из печати книга Василия Церенова «Отдам все силы ради народа», в которой рассказывается о боевом пути писателя и ученого Морхаджи Нармаева в годы Великой Отечественной войны, о его вкладе в восстановление национальной автономии калмыков, научном изучении и возрождении калмыцкой породы скота. Исторический фон книги составляют события ХХ века, суть и значение которых самым тесным образом присутствует в наших сегодняшних мыслях и делах. Автор использовал архивные подлинники дневников и писем писателя, в этом отношении издание носит строго документированный характер. Рассказ о перипетиях судьбы одного из известных имен нашего народа, о его горьких, мучительных размышлениях и нравственном выборе вряд ли кого оставит равнодушным.
Василий Церенов признается, что с Нармаевым он лично близко не общался, хотя его повестями «Санджи» и «Сталинград» увлекся в школьные годы. Но по мере изучения прошлого народа, роковых событий войны, черных годов ссылки имя писателя стало для него одним из дорогих имен в этой жизни. Автор документальной повести называет своего героя одним из самых светлых и цельных личностей нашего народа. Не стоит объяснять, что в силу советской политической системы, как и многие другие яркие деятели, Нармаев был ограничен в своих действиях и возможностях. Тем не менее, то, что ему удалось свершить в переломное время истории, живет и получает развитие и сегодня.
Я знал Морхаджи Бамбаевича не понаслышке, не раз убеждался в его глубокой порядочности. Он уважал человека не по чину, а по достоинству. По возрасту Нармаев годился нам, молодым писателям, в отцы, разговаривал же с нами на равных, не подчеркивая ни своих заслуг, ни званий. Воспитанный на этических принципах наших предков, он был человеком редкой внутренней культуры.
Награжденный боевыми орденами и медалями, он мало рассказывал о своих фронтовых дорогах, боях под Ржевом, Сталинградской битве. Однажды летом после встречи с читателями в Приозерном районе, мы заехали на пруд, решив искупаться, отдохнуть. И когда на берегу мы разделись, я вздрогнул, увидев израненную спину Нармаева. Было заметно, что у него не хватает нижних рёбер, спина испещрена зримыми следами хирургических швов. Я понял, что он каким-то чудом избежал смерти. Морхаджи Бамбаевич плескался в воде, разговаривал, смеялся. Наслаждался жизнью, не обращая внимания на тяжелые меты войны. Этот случай заставил меня увидеть его другими глазами.
Морхаджи Нармаев был совестливым человеком. В разных ситуациях всегда оставался самим собой, не кривил душой. Если братья по перу, увлеченные своим рассказом, привирали, чтобы показать себя героями, он густо краснел, сердился, не находил себе места. Он отличал честных людей, относился к ним подчеркнуто уважительно. И люди, особенно молодые авторы, тянулись к нему, отвечая взаимностью. Он любил и умел поддержать человека, не жалея для этого ни времени, ни сил, и для многих стал действенной опорой в жизни.
Из книг и статей Нармаева читатели были осведомлены о его военной биографии. Василий Церенов сосредоточил внимание на поворотных моментах фронтовой судьбы писателя и у него получился яркий рассказ о молодом человеке, который, не допуская душевной слабости, отважно и стойко дрался с ненавистным врагом.
5 июля 1941 года Нармаев добровольно ушел на фронт. Это был его нравственный выбор. На передовой судьба словно щадила его, хотя несколько раз находился, как говорят, на волосок от гибели. Читая выдержки из его фронтового дневника, убеждаешься, что он воевал смело и честно, разделяя всем сердцем одну единственную мысль – защитить Родину, разбить врага. Не прятался от пуль за спинами боевых товарищей. Меня поразило, как он с бойцами, овладев Лысой горой, знаменитой высотой Сталинграда, завязал узелок на носовом платке. Так поступали наши предки, завязывая в узелок свои страхи и предостерегаясь от возможных опасностей. Боевые товарищи поддерживали его, представляя к очередным званиям и наградам. Мы вправе гордиться фронтовой судьбой Нармаева – это пример поведения истинного защитника Родины. На мой взгляд, он отстоял не только собственную честь, но и имя нашего народа. Быть может, он сам не осознавал, что совершает подвиг, которым мы будем гордиться через десятилетия.
Из ссыльных лет самым тяжелым был сорок четвертый год. Калмыки, огульно обвиненные в сотрудничестве с врагом, были морально раздавлены. Чувство обреченности, тяжелая, горькая тоска не оставляла никого, ни старых, ни малых. Мало кто думал о будущем, важно было достать еду на сегодня, на завтра. Я видел как земляки ежедневно умирали в грязных и насквозь продуваемых бараках. Не помню, чтобы кто-то смеялся в ту пору.
В те недели и месяцы, пишет Василий Церенов, Нармаев постоянно размышлял о трагедии, постигшей народ. 4 декабря 1944 года он, не опасаясь возможного преследования, написал письмо Сталину, в котором сообщал, что «тревожно думает о судьбе народа». Писал, что тысячи калмыков сражались с врагом на фронте, воевали храбро, свидетельством тому высокие правительственные награды. Не менее самоотверженно трудились в тылу. Делился, что ему больно: не все земляки выдержали испытание войной. При этом нисколько не сомневался в чистоте народа и выражал уверенность, что земляки честным трудом заслужат доверие правительства.
«Когда думаю, что отныне на моем родном языке не будет выходить газета, не будет ни книг, ни театра, ни школ, дрожь пробегает по спине», – горевал он в письме. И просил вождя подумать о судьбе калмыцкого народа и определить его будущее.
Конечно, письмо не могло изменить ситуацию, но оно было голосом человека, который не мог согласиться с незаконным решением о выселении народа. Нармаев был последователен. В 1946 году, разбуженный воспоминаниями о родине, он вновь обратился к Сталину с просьбой восстановить справедливость в отношении калмыцкого народа.
В годы ссылки Нармаев был одним из немногих калмыков, кто не прерывал интеллектуальную работу. С 1945 по 1955 год состоял заведующим отделом сельского хозяйства республиканской газеты «Советская Киргизия». Спасибо киргизам! Затем, верный юношеским мечтам, перешел на работу в научно-исследовательский институт животноводства.
Весной 1956 года ХХ съезд КПСС развенчал культ личности Сталина. Под свежим ветром перемен оживилась общественная жизнь. По звонку Адиша Бачаева (отца известного хирурга Марка Бачаева) Нармаев вместе с близким другом Алексеем Берденовым выехал в Москву, твердо решив добиваться восстановления национальной автономии калмыцкого народа. В столице к этой тройке присоединились Апуш и Бем Джимбиновы.
На некоторое время их домом стала библиотека имени Ленина. Нармаев составил письмо, адресованное высшему руководству страны. Ока Иванович Городовиков поддержал усилия инициативной группы и подписал обращение.
13 июня 1956 года их принял Климент Ворошилов, председатель Президиума Верховного Совета СССР. «Это была очень важная встреча, – пишет Василий Церенов. – Впервые после 28 декабря 1943 года калмыцким представителям удалось довести до высшего руководства страны правду о своем народе».
В те же дни Нармаев вместе с Бачаевым и Берденовым посетил Всесоюзное радио и договорился о передаче калмыцкой музыки. Калмыки, услышав песни Улан Лиджиевой, поняли, что пришло время перемен.
Последствия встречи с Ворошиловым приобрели непреходящее значение. 24 ноября 1956 года ЦК КПСС принял постановление о восстановлении национальных автономий репрессированных в годы войны народов, в том числе калмыцкого. В документе отмечалось, что ЦК КПСС считает необходимым исправить допущенную к этим народам несправедливость.
В декабре 1956 года начали работу Оргбюро Калмыцкой партийной организации и Оргкомитет области, которому до выборов в Областной совет трудящихся было поручено руководство хозяйственным и культурным строительством во вновь создаваемом регионе.
9 января 1957 года решением верховных органов страны было образована Калмыцкая автономная область в составе Ставропольского края, через полтора года преобразованная в Калмыцкую АССР.
Так инициативная группа под началом Нармаева сыграла исключительную роль в утверждении исторической правды народа, возрождении наших родных земель, остававшихся заброшенными все годы сталинской ссылки. Инициативу и действия Морхаджи Нармаева нельзя охарактеризовать иначе как моральный подвиг человека, который не представлял свою жизнь в отрыве от народа.
В восстановленной Калмыкии Нармаев не стал бороться за административные посты, хотя в элистинских кругах ему прочили высокую служебную карьеру. Предпочел научную стезю. На основе исследований, проведенных им в Киргизии, защитил кандидатскую диссертацию.
Нармаев возглавил Калмыцкую сельскохозяйственную опытную станцию и занялся изучением и выращиванием калмыцкой породы скота. Успешно защитил докторскую диссертацию. К его научной деятельности я еще вернусь, здесь же хочу отметить, что в те годы он был одним из активных и влиятельных членов обкома КПСС.
Восстановление Калмыкии, как пишет Василий Церенов, шло с издержками, вызванными низким профессиональным уровнем тогдашних работников, в том числе и первого секретаря обкома партии Н. Жезлова. Авторитарные чиновники, воспитанные сталинской эпохой, не терпели никаких замечаний в свой адрес.
Врач Церен Корсункиев написал в редакцию газеты «Советская Россия» о недостатках в работе Элистинского горкома партии. Расправа последовала незамедлительно. Директор совхоза «Лиманный» заметил главному зоотехнику областного сельхозуправления М. Ф. Жезловой о ее некомпетентности и грубости с подчиненными. Его тут же уволили.
Исчерпав личные возможности остановить этот вал нарушений, Нармаев письменно обратился к Н. С. Хрущеву, первому секретарю ЦК КПСС. Он обстоятельно рассказал о бедах Калмыцкой областной партийной организации. Последовали перемены. Но и при новом секретаре примеры субъективизма продолжали иметь место. Порядок удалось навести лишь после избрания Б. Б. Городовикова первым секретарем обкома КПСС.
Басан Бадьминович поддержал усилия Нармаева по возрождению калмыцкой породы скота. Договорился с министром сельского хозяйства СССР об открытии в Калмыкии научно-исследовательского института мясного скотоводства, руководителем которого назначил Нармаева.
Я наблюдал как Нармаев создавал этот институт. На различных совещаниях он не раз докладывал об основах его научной деятельности, тщательно собирал квалифицированный коллектив. Он мыслил масштабно, вместе с созданием хозяйственной и научной базы института, не забывал о социальных нуждах сотрудников, в основном молодых людей. Не боясь впасть в преувеличения, можно утверждать, что создал комплексный научный центр по развитию аграрной отрасли Калмыкии. Опытные хозяйства добивались немалой прибыли. Я встречал Нармаева на совещаниях, заседаниях Союза писателей, весь его вид говорил о том, что он занимается любимым делом. Создание института я называю трудовым и научным подвигом Морхаджи Нармаева.
Не знаю причин, но на взлете работы ему пришлось оставить любимое учреждение и перейти на преподавательскую работу. К сожалению, сегодня институт влачит жалкое существование, хотя ему присвоено имя Морхаджи Нармаева.
Возвращаясь к книге Василия Церенова, хочу отметить, что она написана сочным, живым языком, безупречна по стилю, содержит редкие, важнейшие сведения по нашему недавнему прошлому. Что касается главного героя повести, то нарисован убедительный образ человека, мысли и заботы которого составляла настоящая и завтрашняя судьба народа.
Владимир Нуров, народный поэт Калмыкии

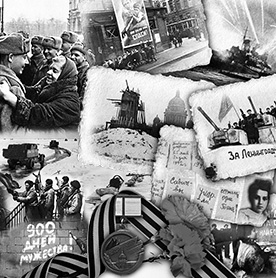






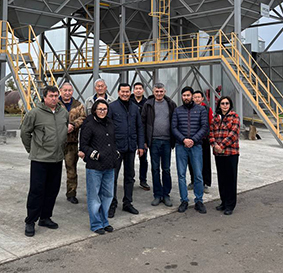














 Республиканская газета, издающаяся на калмыцком и русском языках. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Калмыкии, а также публикует материалы по культуре и языку калмыков.
Республиканская газета, издающаяся на калмыцком и русском языках. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Калмыкии, а также публикует материалы по культуре и языку калмыков.