Герел Бадаева – самый молодой драматург в республике

Герел Бадаева в 2021 году окончила факультет драматургии Литературного института им. М. Горького. На творческом счету молодого калмыцкого драматурга – пьесы «Поезд памяти», «Галдан и Ану», «Салдсин эк», а также спектакли в сотрудничестве с Сергеем Бурлаченко «Чудесная планета», «Пришельцы виртуального мира», которые поставлены на сцене Национального драматического театра им. Б. Басангова.
Герел Бадаева окончила Элистинскую многопрофильную гимназию. Прославленный педагог начальных классов Нина Линченко, заметив способности девочки, давала ей отдельные задания и ждала продолжения жизнерадостных историй, сказок о космосе, которые ученица приносила. Нина Николаевна была первой, кто поддержал ребенка на творческом пути. В средних классах ее поддерживали учителя русского языка и литературы. О постоянно пишущей девочке из физико-математического класса знали все учителя, среди которых были такие замечательные педагоги, как математик Вера Брюханова и физик Роза Мемеева.
Определиться с дальнейшими планами помогла Лариса Летуева, на тот момент директор школы искусств, в которой Герел училась семь лет игре на фортепиано, потом вокалу и потому долгое время думала, что ее жизнь будет связана с пением. Но сложилось по-другому. Как-то директору попалось на глаза стихотворение Герел, которое она отправила на конкурс. Позже Лариса Борисовна предложила кандидатуру способной девушки на целевое место в Литературный институт им. М. Горького.
– Как складывалась учеба в таком творческом вузе, как Литературный институт им. Горького?
– После учебы я пять лет должна была отработать в Калмыкии. Литинститут – это место, где дают очень хорошее гуманитарное образование, необходимое для становления писателей, поэтов, драматургов. Нам читали историю, языки, историю литературы зарубежной и отечественной. С понедельника по субботу шли самые обычные пары. По вторникам работали мастерские, на которых студенты всех курсов встречаются с мастером. У нас был единственный мастер – драматург Владимир Малягин. Мы обсуждали тексты друг друга, Владимир Юрьевич всегда сохранял между нами солидарность, поддержку. Он внушил нам, что не существует конкуренции в творческом мире. Мы все уникальны, и в этом наша сила. Нам самим надо развиваться, а не смотреть, кто что делает, то есть помогать друг другу, учиться друг у друга. Но не конкурировать.
– Очень интересно и необычно, ведь мы привыкли соперничать, конкурировать в условиях рынка.
– У меня другой взгляд на это благодаря Владимиру Юрьевичу, всему институту. Литинститут – уникальное место с очень богатой историей.
– По завершении обучения какие квалификационные работы защищают выпускники Литинститута?
– Как принято в вузах, здесь защищают дипломные работы, но именно творческие. У поэтов это 55-60 страниц стихотворений. У прозаиков соответственно тоже. У драматургов – пьесы. Я написала две пьесы. Первая – «Венчание матери Земли». Ее можно прочитать в журнале «Традиции и авангард». Вторая – «Зарго», на калмыцкую тематику.
– Было желание остаться в столице?
– Возможность остаться в Москве была. Могла воспользоваться своим образованием, идти, куда хочу, зарабатывать деньги и так далее. Но у меня есть долг перед моей родиной, ведь она столько вложила в мое образование.
– Первая ваша пьеса «Поезд памяти». Как долго вы над ней работали?
– Около полугода. Пока собирала материал, пыталась разобраться в вопросе: имею ли право говорить о вещах, которых не знаю, но которые могу восстановить? Это же касается людей, переживших ссылку, войну, оккупацию. Другой вопрос, когда сформированы характеры героев, персонажей и они берут на себя некоторую ответственность. И они сами решают, о чем они хотят говорить, как они хотят делать. Иногда идут наперекор. Я хотела изначально так, а они решают по-другому. Для постановки спектакля «Поезд памяти» пригласили Алексея Сарангова, который уже работал в театре «Джангар». И он справился.
– Кто помогает тебе в настоящее время?
– Моя ээджа Анна Николаевна Кичкильдеева. Ей 70 лет, она учитель истории и обществознания. На кухне каждое утро идут наши дебаты. Она первый человек, который слушает все, что я пишу, корректирует, критикует. И поддерживает меня во всем. Так было со школы.
– Когда читается материал? Решение по спектаклю принимает совет?
– Все зависит от режиссера, с которым я работаю. Что мне очень нравится в театре, так это то, что Борис Наминович дает свободу, если что-то он не понял или это не совпадает с его представлениями. Он никогда не скажет: «Нет». Он всегда за театр, за новое. Не ставит никаких препятствий. За это я ему благодарна.
– Когда вы пишете пьесу, представляете кого-то из актеров в конкретной роли?
– Актеры – это отдельная, особая категория людей. Они существуют по своим законам и правилам. Одно из них – сломать свою природу, превозмочь себя для того, чтобы стать другим человеком. И чем больше ему приходится превозмогать, перевоплощаться, тем больше, выше и ценнее его мастерство. И, соответственно, его работа. Поэтому я тут точно имею абсолютную свободу. Я могу порекомендовать режиссеру каких-то артистов, которые могли бы справиться. Но я еще учусь. Режиссер сам решает, кого он хочет видеть в той или иной роли.
– Следующая ваша работа «Галдан и Ану». Как долго работали над ней?
– Борис Наминович сказал, что это будет мюзикл. Нужно было писать пьесу со множеством песен. Стихи у меня получаются легко, особенно если нет сложного творческого задания. Работа заняла три недели. Это история про соединение веры и степного духа. Галдан – интересная личность. И это интересное исследование для художественного представления.
– Когда ты пишешь исторические пьесы, как плотно ты работаешь в библиотеке, архивах?
– Я сосредоточиваюсь в библиотеке, ищу материал, связанный с моей темой.
– Ты, видимо, самый молодой драматург в республике?
– Есть молодые люди, их огромное число, которые хотели бы писать. Они есть, но они не пишут. Творческий человек пишет от начала до конца. Это самое сложное. Нетрудно придумать замысел, персонажей, как они будут взаимодействовать. Но соединить их какой-то одной концепцией в единое произведение – достаточно сложная задача. Молодые люди, желающие писать, поднимать интересные темы, – большие молодцы. Но надо писать. И таких творческих людей нужно поддерживать.
– Что тебя волнует в творческой среде?
– Проблема нашего времени заключается в отсутствии коммуникаций. Не разговаривают литераторы друг с другом. Не ищут сообща возможности быть опубликованными. Нет взаимодействия с читателями. Короче говоря, нет базовой вещи – люди перестали обсуждать важные проблемы.
Популярному нашему артисту на улице задают кучу вопросов, вносят предложения: «У меня есть идея, я хотел бы написать то-то. Почему вы не поднимаете такую проблему?». А когда задаешь очень простой вопрос: «А вы про это написали? У вас есть текст?» Это самая большая обманка. Идея произведения, того, как оно выглядело бы, как оно повлияло бы на людей, гораздо привлекательнее, чем свершившийся факт в виде написанного от первого до последнего слова. Оно всегда будет хуже, чем идея, которая изначально была в голове. Есть соблазн оставить идею себе как некий прекрасный идеал. Пока человек не напишет произведение, она так и останется идеей в голове. Важно преодолеть себя. Появится первое произведение – за ним последуют другие.
– Как работали над драмой «Салдсин эк»?
– Существует оригинальный текст Анджи Тачиева, его перевела моя ээджа. Она сделала подстрочник, где-то 100 страниц. По этому подстрочнику я написала пьесу. Затем его вновь переложили на калмыцкий язык. Моя задача состояла не только в том, чтобы составить структуру, но и вписать те элементы языка нашего мэтра, Анджи Эрдниевича, которые являются бриллиантами, украшением ювелирного изделия.
Поначалу было сложно работать с текстом. В оригинальном тексте много описаний, разрозненных элементов. Когда начала «пересобирать» структуру по действию, я поняла, что это загадка. Автор буквально говорит, что не может об этом говорить, может дать намек. А дальше ты сам разгадывай. Те читатели, которые знакомы с оригинальным текстом, они были знакомы с контекстом, исторической реальностью. Кого-то сажали, а мы этого не знаем. Какую дает подсказку Анджа Эрдниевич? Он пишет особым языком, использует пословицы, поговорки, описывает традиции, различные ритуальные действия. Текст изобилует этими вещами. И уже из них можно что-то вытащить и переложить в то действие, в котором присутствует лакуна.
Это была скрупулезная, интересная работа. У нас с писателем словно шел разговор. Для меня было честью, достижением, когда Кермен Джушхинова, дочь А. Тачиева, ознакомившись с пьесой, положительно оценила результат. Она как филолог оценила работу и концепцию. Я думаю, что это самое главное, самое важное.
Я доверилась Тачиеву, той информации, которая была у него в тексте двух его произведений – «Мать солдата» и «Письмо отцу». С точки зрения структуры мне было важно не то, что говорят персонажи, а то, кем они являются, как они между собой конфликтуют. Жесткая структура приводит зрителя, читателя к определенным выводам, эмоциональному состоянию, последующей постановке каких-то конкретных вопросов.
– Я была на нескольких премьерных спектаклях, где вы являетесь автором. После показа отмечали работу режиссера, актеров, а вы, как мне показалось, были несколько в тени. Вас это не обижает?
– Это мой выбор. Я считаю, пусть больше будет того, что я делаю, – идей сценариев, концертов. Качественное, концептуальное, осмысленное слово идет к людям. И они присваивают его себе. Это важнее, чем то, что где-то будет мое имя.
– Неожиданно такое слышать, даже непривычно. Мне кажется, что сейчас молодые люди нацелены на то, чтобы заострить внимание на себе, выйти на первый план. Или я ошибаюсь?
– Такое бывает от неуверенности...
– Что вы любите читать в свободное время?
– Все подряд. Мне нравится перечитывать Льва Толстого. Моя первая учительница Нина Николаевна передала любовь к нему. Периодически возвращаюсь к Толстому. В чем-то я его понимаю. Где-то он структурирует мои мысли. Перечитываю «Анну Каренину».
Беседовала Людмила НАМРУЕВА

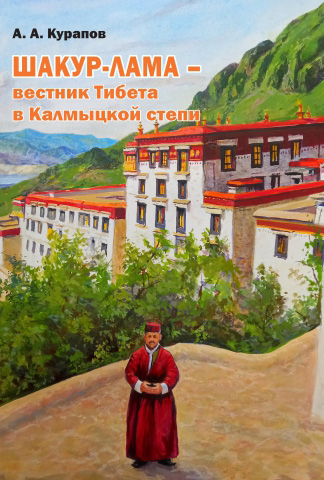








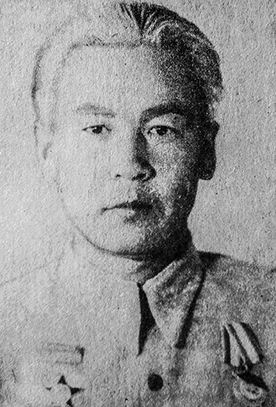












 Республиканская газета, издающаяся на калмыцком и русском языках. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Калмыкии, а также публикует материалы по культуре и языку калмыков.
Республиканская газета, издающаяся на калмыцком и русском языках. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Калмыкии, а также публикует материалы по культуре и языку калмыков.