Война была у каждого своя
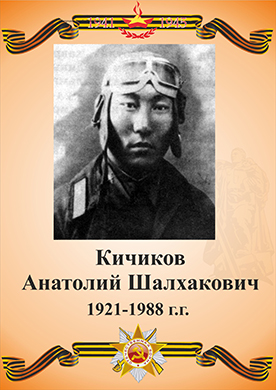
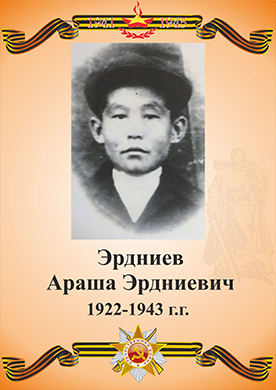
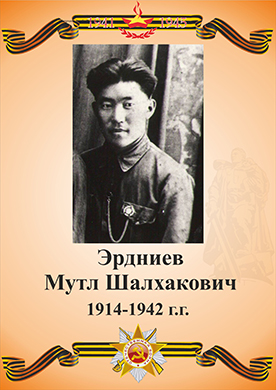
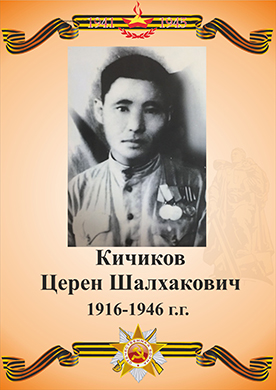
У каждого была своя война, каждый фронтовик внес свою лепту в общее дело разгрома врага, каждый сыграл свою, уготованную ему судьбой и историей роль. Но общая наша победа досталась огромной ценой
– ценой жизни целого поколения, невосполнимых потерь, исчисление которых не под силу ни современникам, ни потомкам.
Анатолий КИЧИКОВ (1921-1998)
Война меня застала в буквальном смысле на посту –в карауле в городе Грозном. Я был тогда курсантом Грозненского военного авиационного училища имени Полины Осипенко. Это было штурманское училище, только что открытое в 1940 году. Туда пришли сотни юношей-комсомольцев, потому что был объявлен призыв: сто пятьдесят тысяч комсомольцев за штурвал самолетов! Летать быстрее всех, выше всех, дальше всех!
Итак, я был в карауле, курсант, который пришел сменить меня на посту, сообщил, что началась война.
Мы сразу перешли на военный режим учебы, быта, боевой подготовки. Первый порыв был – все бросить, идти на передовую. Но кто бы нам это позволил! Ощущая приближение войны, мы понимали, что придет она с Запада. Были признаки этого: с нами учились комсомольцы, хорошие ребята, немцы из Поволжья, - в марте 1941 года их отчислили. И тогда мы догадались, что вот-вот начнется война, и именно с Германией.
Нас учили, что врага мы будем бить на его территории. Но фашисты шли по нашей стране, разрезая ее танковыми клиньями, как они выражались, - как ножом по маслу. И тогда мы не выдержали – мы потребовали у командования училища выстроить нас и позволить высказаться. Инициатором был мой друг Саша Ковалев, уроженец Баку, паренек из рабочей семьи. Наше требование было такое: учиться, прохлаждаться в то время, когда немецкие танки неудержимо идут в глубь страны, некогда – пусть дадут нам возможность их остановить. Мы рассуждали так: сколько тысяч танков есть у фашистов – столько найдется среди комсомольцев и добровольцев-смертников. Мы написали рапорт и объявили перед строем, что готовы идти на фронт в качестве смертников: каждый сумеет ценой своей жизни, обвязавшись гранатами, остановить один вражеский танк, а нас – тысячи. Конечно, командование было ошеломлено. А через два дня нам объявили приказ: продолжать учебу, интенсивно, качественно, чтобы бить врага тем оружием, которое нам будет доверено.
Занимались мы день и ночь. Пошли ночные полеты. Нашим грозным оружием была бомба. Летали обычно на полигон для учебных бомбардировок. В качестве бомб использовали цемент как имитирующий материал. И вот однажды нас подняли по тревоге, мы отправились ускоренным маршем на аэродром и увидели, что под фюзеляжами наших учебно-боевых самолетов вместо цементных лежат настоящие фугасные бомбы. Было приказано их подвесить.Подвесили. Дали карты, и мы взлетели.
Оказывается, по тревоге были подняты Грозненское пехотное училище, училище МВД, парашютно-десантная бригада и наше авиационное училище.Это было в конце сентября 1941 года.
Горные населенные пункты оказались тогда местом укрытия разрозненных групп вооруженных банд. И нам пришлось вести борьбу с ними. Это, думаю, та страница истории, которая не многим известна. К сожалению, горы тогда отвлекли нас от боевой подготовки, причем всерьез и надолго.
Поскольку техника была довольно изношенная, однажды случилось то, чего мы всегда боялись:зависание бомбы, то есть бомба не сбрасывалась, не падала – с ней надо было возвращаться. Это самое страшное, так как при посадке она взрывается. Ладно, мы вдвоем с пилотом погибнем, но ведь разнесет к черту весь аэродром, всю технику! Любой ценой надо было сбросить эту бомбу, и обязательно над водоемом. Вот мы и «челночили» над речкой, а я отводил и подводил стальные троса (их шестнадцать!), на которых бомба крепится. Двадцать-тридцать минут, пока мои усилия не увенчались успехом, казались мне вечностью. Руки были изорваны в клочья, часы с циферблатом вообще снесло!
Кроме обычной штурманской подготовки, большую группу готовили к химической войне. До сих пор помню технические характеристики ХАБов – химических авиационных бомб: иприт, синильная кислота, другие новейшие достижения химии. Мы записывали технические данные, а записи оставляли в учебных аудиториях, выносить засекреченные сведения не разрешалось. Нас инструктировали: где бы мы ни оказались, к началу химических операций нас должны были собрать в соединение по «авиационной обработке» территории врага. Слава богу, не пришлось участвовать в этих кошмарных по своим последствиям операциях! С ужасом вспоминаю эти страшные данные, когда мельчайшая капля синильной кислоты уничтожала все живое. Причем поливать ею должны были с низкой высоты, с бреющего полета - и все живое, чужие и свои - должны были пострадать. Слава богу, не довелось…
Учеба продолжалась до 1942 года, когда состоялись выпускные экзамены и мы получили первые свои звания, кто сержантские, кто иные. Я был признан мастером бомбометания с низких высот, видимо, этому способствовало острое зрение степняка, к тому же был сильно развит рефлекс запаздывания. Были среди нас такие мастера: втыкали на поле кол и на бешеной скорости самолета макетом бомбы его буквально вбивали в землю. Мы были отлично подготовлены. Но, к сожалению, авиационной техникой обеспечены не были. В принципе, страна располагала прекрасными образцами авиационного вооружения, уже были созданы самолеты, и скоростные, и высотные, но секретомания, засекреченность мешали их серийному производству.
В июне-июле 42-го в связи с прорывом фашистов в районе Ростова-на-Дону и в связи с тем, что они одним флангом двинулись в сторону Сталинграда, а другим – на Северный Кавказ, в Закавказье, нас бросили на эвакуацию отступающих советских частей. Из Краснодарского края мы вывозили штабы дивизий армий. К примеру, на мощном тяжелом четырехмоторном бомбардировщике ТБ-3 совершали ночные посадки в районе Усть-Лабинска, где грузили штабные документы, вывозили штабное начальство. Это были серьезные операции. Пошли первые потери. После нескольких наших удачных заходов экипаж ТБ-3 под командованием капитана Лисичкина, которого мы хорошо знали, попал в устроенную фашистами западню (немцы к тому времени успели занять Усть-Лабинск) и был пленен. Экипаж был большой – полтора десятка человек.
А враг брал уже города Северного Кавказа. Начались авиационные налеты на Грозный, который для врага представлял значимую цель. Этот город и Баку обеспечивали юг страны горючим, авиационным бензином. В Грозном был целый район нефтеперегонных заводов – знаменитый Сталинский.
И вот я оказался в противовоздушной обороне Грозного. На самых высоких зданиях стояли наши зенитки, спаренные крупнокалиберные пулеметы (техника для нас знакомая). Во время ночных налетов мы по звуку определяли типы самолетов. Главной задачей было не подпустить их к району нефтеперегонных заводов, отогнать интенсивным заградительным огнем большой плотности. Все небо взрывалось фейерверком. Оказывается, человек может 72 часа простоять у зенитной установки - в жару, без сна, без отдыха, под огнем врага. Когда среди нас появились первые раненые от осколков снарядов зенитных орудий, мы оценили значение простой солдатской каски. Сталинский район и сам Грозный, промышленный город-красавец, тогда отстояли. Враг был остановлен около Моздока.
Наши легкие самолеты превратили в ночную бомбардировочную авиацию. К тому времени появилась ставшая впоследствии знаменитой женская эскадрилья майора Евдокии Бершадской, которая дислоцировалась по соседству с нами, летали летчицы на легких У-2 и по ночам буквально изматывали врага. Наши уцелевшие самолеты тоже по ночам беспокоили противника: по сигналам головного самолета сбрасывали по ночам бомбы.
Перебросили в наш район и целое соединение, оснащенное американской техникой. Самолеты типа Бостон-7, прекрасные двухмоторные бомбардировщики с высоким килем, совершали дневные налеты, к сожалению, без истребительного сопровождения, и потому несли огромные потери. Без сопровождения истребителей бомбардировщики становились легкой добычей врага. Было очень обидно, что эти прекрасные машины возвращались буквально изрешеченными, порой едва могли дотянуть до аэродрома.
Нашим уделом были ночные полеты. Фашисты в небе господствовали. Вскоре они нас обнаружили, по ночам спуская на парашютах бомбы-прожектора: понавешают «фонарей», которые очень медленно спускаются, и все вокруг заливает светом. Налет не заставил себя ждать. Сгорел весь наш полк, вся «фанерная» наша авиация…
После этого нас, 850 «безлошадных» летчиков, перебросили через Кавказский большой хребет в распоряжение Закавказского фронта. Глубокой осенью 1942 года мы добрались до места назначения. Оборванные, странно вооруженные, мы произвели в Тбилиси очень «сильное» впечатление. Недели две нас продержали в карантине. Надежды, что мы пополним авиационные части, не оправдались: выяснилось, что вся авиационная техника прямо с ходу, с конвейера идет на передовую, и в тылу формирующихся частей нет. «Не на что вам надеяться», - «обрадовали» нас и приказали пройти краткосрочное обучение в знаменитом Тбилисском горно-артиллерийском училище. Приказ есть приказ – и шесть месяцев нас обучали другой военной специальности. Это было не трудно. Я окончил курсы с отличием и в числе тринадцати других курсантов-отличников (из двух тысяч обучающихся) получил звание лейтенанта.
Стали отправлять выпускников в различные воинские части. Мы рвались на передовую – сорок третий год! Но судьба отличников оказалась печальной, в военном отношении странной: из нас сформировали Отдельную 44-ю команду и отправили… в Иран. Территорию Ирана к тому времени заняли союзники, а на севере стояли наши войсковые соединения. Представьте, что творилось с нами: мы хотим на передовую (куда угодно!), а тут – Иран! Но кто бы стал считаться с нашими желаниями! Нам, помню, объяснили так: «Вы – хорошо подготовленные командиры, а «там» подразделениями командуют буквально сержанты. Вы их смените, подготовите подразделения и через три месяца особым маршрутом – через Грецию – пойдете на соединение с наступающими частями». Это была ложь, может быть, святая, нужная в тех условиях, но нам от этого было не легче.
Короче, отправили нас в Иран. Действительно, мы заменили сержантов, старшин. Но ни о каких «особых маршрутах» речь не шла. Конечно, сейчас понимаешь, что тот район имел важнейшее стратегическое значение. Дело в том, что через Персидский залив страна, фронт получали большую помощь от союзников по так называемому ленд-лизу (ленд-лиз – это бесплатная или в будущем условно платная помощь со стороны Америки). Из Америки день и ночь шли и разгружались в Иране океанские пароходы. И оттуда к нам в страну своим ходом шла американская техника – студебеккеры, шевроле, виллисы. Причем студебеккеры шли, груженные продуктами питания, артиллерийскими снарядами, запасными частями к авиационной технике американского производства, медикаментами. Наши женские автобаты отправлялись автобусами прямо к пароходам, там же садились за руль поступающей техники и возвращались обратно.По этой трассе день и ночь двигались нескончаемые караваны машин. И немцы, понимая ее значение, бросали диверсионные отряды и перерезали путь в совершенно неожиданных местах. Приходилось уничтожать вражеские отряды, разгонять диверсантов. Работы хватало… К тому же, как выяснилось, мы прикрывали Закавказье и с «той» стороны – да, американцы и англичане были союзниками, но командование не исключало возможности интервенции.
Такова была наша миссия до тех пор, пока в 1994 году меня как калмыка по национальности не отозвали в распоряжение Среднеазиатского военного округа.
У каждого была своя война, каждый фронтовик внес свою лепту в общее дело разгрома врага, каждый сыграл свою, уготованную ему судьбой и историей роль. Но общая наша победа досталась огромной ценой – ценой жизни целого поколения, невосполнимых потерь, исчисление которых не под силу ни современникам, ни потомкам. Это относится ко всем народам нашей страны. Но потери малочисленных народов и их отдаленные последствия – особого качества. Взять, к примеру, мою семью: нас ушло на войну четверо братьев, а уцелел я один. Поэтому именно сегодня имею возможность говорить о себе, но прежде всего – о них, братьях, не говоря уже о сверстниках. Каждый из них представлял собой особенную личность, нес на себе печать неповторимой индивидуальности, каждый по-своему был одарен. Восемнадцатилетние вчерашние школьники, они обещали стать ценнейшими членами общества. Были среди них и сверходаренные, таланты. Им, с жадностью учившимся, легко давалась учеба. Одни – грызли гранит знаний, другим эти граниты давались легко, они сокрушали их играючи. Таков был потенциал их интеллекта. Эти прекрасные юные люди не вернулись и улетели от нас, превратившись в голубых журавлей (этот образ ближе нам, калмыкам). Их образы – в памяти тех, кто случайно уцелел и вернулся с фронта. И уйдем мы в небытие вместе – и уцелевшие, и павшие – как одно поколение. А пока эти образы павших братьев-сверстников – постоянная наша боль…
Оставшиеся в живых не могут быть вполне счастливыми. Это я утверждаю в связи с тем, что некоторые говорят: «Я счастлив, потому что уцелел». Это не так.
Война принесла такое немыслимое, невообразимое зло, которое было не под силу никому представить, предвидеть. Пресеклись рода, фамилии, семьи. Исчезли целые семейные, родственные гнезда. Таковы в моем аймаке многочисленные рода Мамаевых, Тавкаевых (последние – потомки героя Отечественной войны 1812 года). Это были не абстрактные люди – живые, каждый значителен по своему, и поэтому, уцелев в страшной войне, считать себя вполне счастливым – невозможно.
Я часто возвращаюсь к памяти братьев. Будь я рядом, каждого заслонил бы собой. Они были лучше меня. Я посвятил им свою монографию «Героический эпос Джангар». Это все, чем я лично смог увековечить их память, память братьев, сверстников. Они стоят перед мысленным взором.
Павлуша Гирдыков из Лагани, который был сверходаренным юношей. Я вижу в его лице выдающегося ученого. Равным ему по одаренности был Анджа Сарангов, мой юный земляк.Моя одноклассница Були Цюгатиева, красавица, партизанка, попала в руки врага, ее пытали с особой жестокостью.
Мутул учил в селе Троицкое русских детей русскому языку тогда, когда калмыки еще не владели русским языком. Это был одаренный поэт, эрудит, мыслитель. Для нас, его младших братьев, оставшихся без родителей, был нравственным образцом, патриархом. В двадцать лет он был непререкаемым авторитетом для своих сверстников.
Нас, младших братьев Мутула, раскидала судьба детей отца, так называемого лишенца. Мутул, пройдя суровую школу жизни и учебы, сумел собрать нас под общую крышу лишь в 1936 году. И мы получили возможность учиться, учиться с жадностью, чтобы наверстать упущенное.
В июне 1940 года брат собрал нас. Меня вызвал телеграммой из Астрахани, где я учился. Поводом послужило то, что среднего брата Церена призвали в армию. Церен работал в совхозе «Западный» бригадиром тракторной бригады, скромный труженик, очень добрый человек… Вот тогда Мутул решил собрать нас, братьев, за одним столом. Он устроил угощение для всего совхоза – калмыков, русских - все побывали на этом прощальном, довольно грустном празднике. А когда дядя Надвид попенял: «Что ты делаешь, в такую жару зарезал целую корову?» - он, оказывается, ответил: «Нас четверо братьев. Хорошего в жизни видели мы мало. Я и решил их всех вместе посадить за стол – хоть раз посидим семьей. Боюсь, что второй раз вот так все вместе за стол не сядем». К сожалению, его предвиденье оправдалось. В то время Мутул был ответсекретарем газеты «Улан Хальмг». Ему было 26 лет. А в 28 лет он погиб на Дону в деревне Карповка. Уходя на фронт, отказался от брони, сказав: «А что я отвечу братьям, где я был, когда встретимся?». Он автор «Марша 110-й дивизии», в составе которой служил, воевал.
Церен (1916 г. р.) умер в госпитале от ран, тринадцати тяжелых ран. Единственное, что известно мне из его фронтовой биографии, случай, рассказанный им самим в письме: после страшного авиационного налета на его батарею, его засыпало в окопе. Немногочисленные оставшиеся в живых батарейцы увидели торчащую из земли шевелящуюся ступню левой ноги – вот и раскопали его.Его, водителя тягача, рядового труженика войны, любили солдаты.
Араша, младший, 1925 года рождения, в августе 1943 года, когда ему не было еще восемнадцати, ушел на войну. Покоится он под городом Тверь. Тоже был одаренный юноша, живой, подвижный…
Вот я и думаю часто: если бы не война, нас, Кичиковых, было бы много, может, целый квартал. Сколько бы у меня было племянников!.. И эти неродившиеся мои племянники тоже двигали мною, взывали ко мне, когда я писал свою главную книгу. Нет, все-таки незавидная доля – остаться в живых в страшной войне, одному из многих родных, близких, друзей, кому не довелось прийти домой с полей сражений. Осознание того, что их нет и никогда не будет, наполняет душу горечью и болью. Может ли ощущать себя в полной мере счастливым осиротевший? И юбилей Победы для меня и для моих сверстников – новая встреча с памятью об ушедших в бессмертие полвека тому назад.
(Републикация по: «Теегин герл», 1995, № 3)
Материал подготовлен Б.А. Кичиковой, Р.А. Кичиковой
На снимках: Братья в строю «Бессмертного полка»










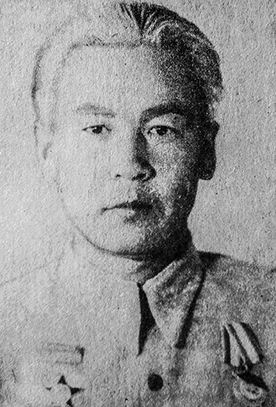












 Республиканская газета, издающаяся на калмыцком и русском языках. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Калмыкии, а также публикует материалы по культуре и языку калмыков.
Республиканская газета, издающаяся на калмыцком и русском языках. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Калмыкии, а также публикует материалы по культуре и языку калмыков.